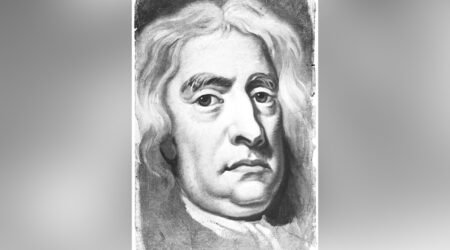Моя дорогая Ба
Бабе моей дорогой сегодня 126 лет. Какая-то нелепая цифра. Стыдно, что ставлю старый рассказик. Могла бы и новый написать. Чем занята, не ведаю…
 Полезла в старые фотографии, которые чудом сохранились и покоятся тут в альбоме – на Манхэттене. Снятые в Херсоне. Самая ранняя, 1897 года, – моя любимая. Бабе пять лет. Я в свои пять буду такой же. И вторая – бабе 15 и она гимназистка. Я даже гимназию ее знала – на проспекте Ушакова, бывшей Говардовской – в честь англичанина Джона Говарда, что спасал херсонцев в холеру, а себя не спас… Я тоже старалась быть серьезной в школе. А дальше, увы, не смогла послужить людям, как баба. Она – врач, медицинская сестра, выбирала ночные дежурства в военном госпитале, чтобы быть рядом, когда кого среди ночи прихватит боль. Ну и чтобы день провести со мной. Мне все равно было, что баба спит. Помню, взбиралась на нее спящую и причесывала ее в свои три-четыре. Прости, пожалуйста, что не дала тебе выспаться.
Полезла в старые фотографии, которые чудом сохранились и покоятся тут в альбоме – на Манхэттене. Снятые в Херсоне. Самая ранняя, 1897 года, – моя любимая. Бабе пять лет. Я в свои пять буду такой же. И вторая – бабе 15 и она гимназистка. Я даже гимназию ее знала – на проспекте Ушакова, бывшей Говардовской – в честь англичанина Джона Говарда, что спасал херсонцев в холеру, а себя не спас… Я тоже старалась быть серьезной в школе. А дальше, увы, не смогла послужить людям, как баба. Она – врач, медицинская сестра, выбирала ночные дежурства в военном госпитале, чтобы быть рядом, когда кого среди ночи прихватит боль. Ну и чтобы день провести со мной. Мне все равно было, что баба спит. Помню, взбиралась на нее спящую и причесывала ее в свои три-четыре. Прости, пожалуйста, что не дала тебе выспаться.
У меня с математикой плохо, но это сосчитать я могу: к 51 прибавить 8, чтобы узнать, сколько тебе было, когда мы встретились. Я родилась в пятьдесят первом, а ты – за восемь лет до начала века. Тебе исполнилось 59, когда я появилась на свет. Я не знаю, как ты выглядишь в это время, я узнаю тебя на ощупь, по запаху. Твое лицо, глаза я разгляжу впервые только на фотографии, где мне пять и мы сидим рядом – снимаемся на память у фотографа на Суворовской. Он накрывается черной тряпкой, прячет голову за деревянной треногой, так, что фотоаппарат не виден, и кричит из-под тряпки про птичку…
Это наверняка дорогое удовольствие, но ты должна всем послать карточку – показать, какая я вымахала. Сестре Наташе в Москву, другу Пете в ссылку. Отец наверняка тоже просит прислать ему фото. Я лопаюсь от гордости, что мы сидим на одном диванчике и я достаю тебе головой до плеча. И еще потому, что тебя обожает город, а я могу тебя отобрать у всех, стоит мне крикнуть: «Баба!»
Когда я увижу твои башмаки, не помню. Наверное, в ту зиму, когда мы с тобой врали друг другу так, словно состязались, кто кого переврет. Ангелы-летописцы, что хранят нашу переписку, должны были отметить, что я достойна тебя. Ты – в кои веки! – выбралась зимой в Москву повидать Наташу. Почему вы потащились из Останкино гулять в Сокольники, ума не приложу. У Наташи прямо перед домом ворота Ботанического сада, а уж до пруда и усадьбы Шереметьевых совсем два шага. Можно было и там подышать воздухом. Но там делал круг трамвай, что шел в Сокольники. Вы сели и поехали. Ты сослепу не разглядела белую лыжню на белом снегу, ступила на нее, поскользнулась, упала, сломала ключицу и загремела в институт Склифосовского. Тебя остригли там потому, что одной рукой ты уже не могла заплетать свою тощую косичку – «мышиный хвост». Со стрижкой было удобнее, но ты не любила ее.
…Я потом поняла почему: когда нашла твое лагерное фото с номером зэка на кармашке рабочей тужурки. Ты стриженая на нем.
…Ты лежала в Склифе, или скорее сидела: ты не любила залеживаться и наверняка даже с одной рукой ухитрялась помогать соседям по палате, сестрам и нянечкам. Но когда выдавалась минута, ты писала мне длиннющие письма о том, как вы гуляли по Третьяковке. С подробным описанием картин, художников и маленьких, никому не известных тайн из жизни тех и других. Я так и не узнала, была ты на самом деле в Третьяковке или письма были фантазией, но запомнила навсегда, что картина Пименова со счастливой женщиной в открытой машине называется «Москва, май 1937-го». И потом уж, стоя перед этим полотном, недоумевала: как же он мог, если жив остался, не переименовать? Или специально оставил – чтоб знали, что у некоторых тридцать седьмой был счастливым, умытым майским дождем, с сиренью…
Я читала твои каракули у Матвеевых на Забалке, и слезы закипали от досады: ты там как барыня разгуливаешь, а мы тут!.. Но правду писать было запрещено, да я бы и сама не написала, если бы разрешили, потому что в свои двенадцать понимала, что ты тут же примчишься, а девать тебя было некуда: наш дом сгорел.
 …Данилевские так растопили печь, что наша общая с ними стена прогорела насквозь. Пламя вздыбилось, вышибло потолок, а четыре стены нашей комнаты уцелели. В дырку в крыше было видно небо. Мы спали несколько ночей с мамой под этим небом. Вместе – от холода. Потом в дырку пошел дождь, и мама подставила медный таз, в котором ты летом варила вишневое варенье с розовой пенкой, а дальше повалил снег. Пожарники боялись, что балки посыплются, и нас выселили. Маме выделили коечку в общежитии в порту, где жили моряки в ожидании навигации. Я приходила к ней и видела, как она хотела, чтобы наш ремонт никогда не кончался.
…Данилевские так растопили печь, что наша общая с ними стена прогорела насквозь. Пламя вздыбилось, вышибло потолок, а четыре стены нашей комнаты уцелели. В дырку в крыше было видно небо. Мы спали несколько ночей с мамой под этим небом. Вместе – от холода. Потом в дырку пошел дождь, и мама подставила медный таз, в котором ты летом варила вишневое варенье с розовой пенкой, а дальше повалил снег. Пожарники боялись, что балки посыплются, и нас выселили. Маме выделили коечку в общежитии в порту, где жили моряки в ожидании навигации. Я приходила к ней и видела, как она хотела, чтобы наш ремонт никогда не кончался.
А меня забрали Матвеевы. Как ее зимой сорок первого. Даже буфет показали: сверху – чашки-блюдца, как у людей, а внизу, если крупы раздвинуть, – лаз в другую комнату. Оттуда – в сарай, а уж из него, через доски в стене, прямиком в балку, в овраг. Маму там прятали в войну, а меня – в пожар. Ты отдала ее Пете и Шурочке, гимназическим своим друзьям. Уступила: они сами за ней пришли, когда молодежь стали угонять в Германию. Матвеевы замотали ее в тряпье, под старую бабу, и увели. Она рассказала мне это потом, перед смертью.
Я помню, как печатными буквами дописывала своей рукой в каждой поздравительной открытке деду Пете «целую». И возмущалась, что ты не даешь мне листок, а заставляешь мучиться на открытке, умещая большие буквы на маленьком лоскутке.
– Письма перлюстрируются, – говорила ты чудное длинное слово. – А открытка потому и открытка, что открытой идет. Пусть смотрят…
И первую строку отдавала мне тоже: «Дорогой дедушка Петя»…
Они показали мне эти открытки. Петя сказал, что ты единственная, кто не боялся писать ему в ссылку. Ну и я с тобой. Когда детской рукой цветными карандашами начало и конец – в середину можно было вместить новости про Шурочку и детей…
Я сидела у них на Забалке у маленького окна на уровне тротуара, смотрела на ноги-ноги-ноги за занавеской и писала тебе. Спросила у Пети, зачем построили такой низкий дом, и дед Петя сказал, что дом ставили лет сто тому, он был высокий, а тротуар поднимался потом – из-за щебня, который сыпали, сыпали…
Я слушала шарканье ног по тротуару и сочиняла, как мы гуляем с Иркой, Петиной и Шуриной внучкой. Как ходили в театр, на елку, в парк на каток. Я выходила читать афишу на тумбе, что стояла напротив их дома, пузатая, круглая. Старательно списывала с нее, где, кто, когда на гастролях – в филармонии, в Доме офицеров, в ДК судостроителей. Я никогда столько не гуляла в своей жизни, сколько наврала тебе в письмах.
Потом тротуары расчистили от снега, крышу заделали к твоему приезду. Штукатурка еще не просохла на потолке с лепниной, когда ты сошла с поезда. Стриженая, с рукой на перевязи, которая никогда уже не двигалась так, как раньше.
– Неправильно срослось, а ломать заново было жалко, – сказала ты, словно оправдываясь, что уже не можешь ею легко взмахнуть.
А я прижалась к твоему боку – со стороны здоровой руки, чтоб тебе было чем меня погладить, и стыдно стало, что я злилась на твою Третьяковку.
Лучше бы ты по правде в нее ходила, Баба моя…
Потом тротуар подсох – наступила весна. Мы собрались к Матвеевым в гости. Тогда ты и попросила меня впервые помочь тебе застегнуть башмаки…
Если мне за 10 перевалило, значит, год был 62–63-й. Башмакам лет 20 исполнилось. Они выглядели как новые. Черные, тупорылые, с белым рантом, на толстой подметке, широком невысоком каблуке, с металлической пряжкой сбоку. Ты их очень любила, потому что удобные, по лужам идешь сухой, и каблук устойчивый, не проваливается в щели между плитками тротуара. Но что-то неприятное в них тоже было: у тебя как-то немного кривилось лицо, когда я застегивала эту пряжку. Ты любила их, но как хлористый кальций: и пить противно, и надо, потому что на пользу…
Только после перелома ты и попросила:
– Драгоценная моя, застегни мне туфли. Там такой ремешок с пряжечкой.
Я присела подле тебя на корточки и застегнула. Мы проверили: туго, не туго. Они были совершенно ужасные, эти полуботинки, как ты их называла. С живыми бульдожьими тупыми мордами.
Когда я доросла до этих туфель, не знаю. Не помню, когда нога стала те самые 37–38 и ты тихонечко предложила:
– Померяй, они хорошие. Натуральная кожа, непромокаемые. А то ходишь в этом барахле, еще ревматизм себе наживешь. Нельзя с мокрыми ногами…
Безногий сапожник, что ездил мимо нашего крыльца на дощечке на четырех подшипниках, сделал тебе новые набойки. Он тебя очень любил. Все солдаты-инвалиды тебя любили – помнили по военному госпиталю, где ты работала медсестрой.
– Да никогда, – с ужасом оттолкнула я башмаки. Мне казалось, что стоит их примерить, как я стану старой. Что-то стыдное было в их надежности.
– Они тебе еще послужат верой и правдой. Им сносу нет…
Наверное, тогда ты и сказала, что они из Германии. Хотя нет. Тетя Галя, что удочерила Анечку, которую прятала, когда ее родителей угнали в гетто, первая сказала мне, что ты была в Германии, в лагере, только после твоей смерти.
– Никогда, – повторила я.
– Никогда не говори «никогда», – глухо сказала ты и спрятала башмаки назад в коробку, погладив их, как живые, чтоб они не обижались, что я их отталкиваю.
Ты была права. Очень скоро после того, как тебя не стало, настала такая осень, когда мне совсем нечего было обуть. Я нашла их, влезла в них и подивилась, какими удобными оказались они. Крепкими, устойчивыми – после всех лодочек на каблуках.
Безногого сапожника уже не было на углу, и у кого-то другого я набила косячки на его набойки. Я очень уверенно стояла в них на земле. И мордатые носки, если смотреть сверху, были не такими бульдожьими, как казались. В них была тупая бычья надежность, упорство какое-то, что-то похожее на «как дам!», если кто подойдет. Я никого никогда не била ногами. Хотеть хотела, но ударить не ударила. Но, когда глядела на этот широкий тупой носок, мысль эта пришла и подарила бесстрашие на долгие годы бродяжничанья по незнакомым городам в неурочное время. Как долго я в них ходила, не знаю. Знаю, что сменила несколько городов. А потом кто-то скривился: «Что это на тебе?» – и я их сняла. Этот кто-то, наверное, был важен в тот момент. Имени теперь не вспомню. И куда они делись, твои башмаки, не знаю. Кому-то оставила наверняка.
Сегодня сорок лет моему сиротству, Ба.
Я в Нью-Йорке включила компьютер и по интернету вышла на сайт немецкого производителя твоих башмаков. Я узнала их, ремешочек и пряжечку. И купила себе первые настоящие «Биркен», так их зовут. Мне их пришлют из Германии. Я не знаю, Ба, как я могла не видеть, как они прекрасны. Это вопрос оптики: я не видела гору на другом берегу реки, пока мне не надели очки.
Я не понимала, как ты можешь есть эту гадость – вареный лук и фаршированную рыбу. С сыром я, правда, врала. Но так убедительно, что ты, слава Богу, верила.
– Я его терпеть не могу, – плевалась я, только бы он весь тебе достался, этот крошечный ломтик голландского сыра. Граммов двести на месяц. Больше ты не могла себе позволить на нашу с тобой пенсию.
– Это за свет, за квартиру, за воду, на проезд…
И дальше – «разврат»: две пачки «Севера» по четырнадцать копеек и ломтик сыра. Я видела, как ты размачивала в чае пересохшие корочки сыра. Не было у тебя любимее лакомства, и денег на него не было.
Лет 20 после твоей смерти я дотронуться до него не могла. Потом не то чтобы выросла, но как-то поняла, что я должна с этим что-то делать, должна приучить себя к тому, что тебя нет. Я купила сыру. Твердого, желтого, со слезой, ровно твои двести граммов. Села и принялась им давиться: я заталкивала его в себя и не могла проглотить – душили слезы. Потому что если есть сыр и ем его я, значит, тебя нет.
Они самые красивые, эти туфли. И доктор советует: в них такая стелька, которая снимет мне боль в ступне. Я доходилась до артрита в том «барахле», ты была права. Я стала старая, Ба. Мне сегодня столько, сколько было тебе, когда я родилась. Какие же они красивые, твои башмаки. Я знаю, что ты пришла в них из Германии. Тебе их выдали в лагере или ты сама их купила, выменяла – уже не узнать. Главное – все так, как ты хотела: я в твоих тупорылых, мордатых, самых надежных полуботинках.
И что с того, что мой сын с ужасом спрашивает:
– Что это на тебе?
Я их уже не сниму. Осталось дождаться внучки, которой скажу:
– Драгоценная моя, застегни бабе пряжечку…
Сент. 2010
Александра СВИРИДОВА