Похороны Пастернака
«Нас мало. Нас, может быть, трое» — написал Борис Пастернак о поэтах своего поколения. Двоих можно назвать сразу: это сам Борис Леонидович и Маяковский. Третий поэт — Сергей Есенин, может быть, Осип Мандельштам. Анна Ахматова не согласна была с цифрой три. Она писала: «Нас четверо», имея в виду себя, Пастернака, Маяковского и Мандельштама. Борис Леонидович […]
«Нас мало. Нас, может быть, трое» — написал Борис Пастернак о поэтах своего поколения. Двоих можно назвать сразу: это сам Борис Леонидович и Маяковский. Третий поэт — Сергей Есенин, может быть, Осип Мандельштам. Анна Ахматова не согласна была с цифрой три. Она писала: «Нас четверо», имея в виду себя, Пастернака, Маяковского и Мандельштама. Борис Леонидович дружил с Анной Ахматовой, но в своем списке великих ее не числил.
С Есениным в молодые годы Пастернак подрался; за Мандельштама не смог заступиться в разговоре со Сталиным. Это мучило его потом всю жизнь.
Маяковский застрелился, Есенин повесился, Мандельштам погиб в сталинском лагере. Пастернак получил Нобелевскую премию. Эта премия его убила. В газетах, на собраниях на поэта обрушился шквал критики с оскорблениями. Требовали, чтобы отказался от премии, сочинили за него письмо в газету. И, в конечном счете, исключили из Союза писателей.
2 июня 1960 года «Литературная газета» на последней странице, в нижнем уголке мелким шрифтом поместила сообщение:
« Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича…»…
Назвали писателем. Но никто из писателей некролог не подписал. Поэта исключили из творческой организации, оставили членом Литфонда, хотя в организации, созданной для помощи писателям, никакой помощи он попросить уже не мог. Так уходил (мелкими буквами по широкому газетному полю) последний поэт большой четверки. Но уходил не сам, его еще нужно было проводить в последний путь. Объявления о панихиде в газете не было.
Листочки с объявлениями стали появляться у касс на Киевском вокзале утром в день похорон:
«Гражданская панихида состоится сегодня в 15 часов на ст. Переделкино». Их срывали. Кто-то эти листочки (можно сказать, листовки) прикреплял снова.
Я учился в Литературном институте, сдавал весеннюю сессию. По недостатку образования не понимал — кто такой Пастернак. Ценил Маяковского, огромного, громыхающего рифмами. С увлечением разглядывал в книжках фотографии поэта во весь рост, с бантом, с морковкой в нагрудном кармане.
Во время службы в армии впервые прочитал Есенина. Он меня ошеломил нежной красотой простых слов.
Мандельштама не читал. В 1959-60 гг. его еще не издавали. Или, лучше сказать, уже не издавали.
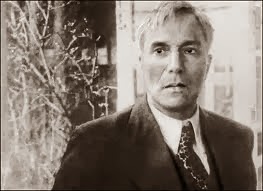
Про Пастернака мне было известно из газет: написал какой-то роман про доктора, издал без разрешения за границей. Прочесть я его не мог, роман был запрещен в Советском Союзе. Стихи Пастернака, конечно, читал, но не очень внимательно. Можно сказать, при первом чтении знакомство не состоялось. Отпугнула сложность метафор. Попробуйте сходу прочесть и понять, например, такие стихи:
Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
……………………………………
Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща
по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.
Корней Чуковский привел эти строки в предисловии к однотомнику, вышедшему в издательстве «Художественная литература» в 1966 году, сопроводив комментарием: « Поэт хорошо знал, о чем у него идет речь, какие подлинные факты и чувства воспроизводит он в стихах. Но большинству читателей они казались «бессмысленными», «сумбурными», «косноязычными», «дикими». Отметим, автор предисловия пишет: так воспринимало стихи Пастернака «большинство читателей». Лукавый критик умел похвалить так, что и ругать не надо. Вероятно, и сам Корней Иванович воспринимал насыщенные метафорами «бессмысленные» стихи вместе с «большинством читателей».
И, чтобы убедительнее было, сослался на авторитет Максима Горького, который тоже не понимал смысла «диких» метафор. В том же предисловии Чуковский привел несколько слов из письма классика пролетарской литературы, адресованных Пастернаку:
« Дорогой мой Борис Леонидович .
Не скрою от вас: до этой книги (поэма «1905 г.» – Э. П.) я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо — слишком, чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня».
Ничего этого я тогда не знал, просто не понимал таких стихов.
Кстати сказать, жена поэта, Зинаида Николаевна, тоже считала стихи мужа непонятными. Сам Пастернак знал, что пишет гениально и потому многим стихи непонятны. В романе «Доктор Живаго» устами второстепенного персонажа он в этом признается.
«Поздней ночью почти перед уходом гостей явилась Шура Шлезингер:
— Ну, здравствуй! Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально».
Сам бы я, скорее всего, не поехал на похороны. В 11 часов утра я еще спал. В дверь моей комнаты настойчиво постучали. Это была литовская еврейка с красивым библейским именем Суламифь. Она училась на четвертом курсе на переводческом отделении. Я был первокурсником. Мы познакомились случайно в библиотеке. И она стала меня опекать. Пышногрудая энергичная девушка с толстыми, как у негритянки, губами, мне очень нравилась. И я послушно ходил с ней: на американскую выставку — любоваться экспонатами буржуазной культуры, в зал Чайковского — слушать Мориса Равеля, в музей имени А. Пушкина — смотреть импрессионистов.
— Ты еще спишь, — удивилась Суламифь. — Быстро собирайся.
— Я поздно лег. Работал, потом читал.
— Поедем в Переделкино.
— Зачем?
— Ты что? Сегодня похороны Бориса Леонидовича.
На Киевском вокзале, на перроне, много было знакомых лиц. Люди здоровались друг с другом. Московская интеллигенция ехала в Переделкино. Электричка отошла от перрона переполненной. Мы с Суламифью стояли в тамбуре, притиснутые друг к другу. И это было главным моим ощущением, а не то, что я ехал на похороны.
День с утра выдался ясный. В узких окнах дверей мелькали солнечные блики. На остановках в открытые двери врывался ветер. Я улыбался, заглядывая в глаза Суламифь. Она смотрела сосредоточенно, строго, но не отстранялась. Поезд рывком остановился напротив низких строений станции Переделкино. Толпа в вагоне качнулась. Выталкивая друг друга, мы выпрыгивали на перрон лесного поселка. Из вагонов вывалилась огромная толпа разноцветных пиджаков и кофточек. На дороге образовалась длинная беспрерывная цепочка людей. Шли по одному и парами, иногда целыми группами. Шли молча, сосредоточенно, как будто делали трудную работу. Вдоль широкой дороги в гору — сосны; тихо, жарко. Верхушки сосен с легким шумом раскачивались, над нами. Над дачным поселком писателей небо было ослепительно синее.
Борис Пастернак часто думал о смерти. Примеры можно найти в стихах и в прозе. В телефонном разговоре со Сталиным он сказал:
— Я так давно с вами хотел поговорить.
— О чем? — спросил вождь.
— О жизни и смерти.
Сталин молча положил трубку. Он не хотел говорить о смерти. Но и вожди умирают. На похороны «отца всех времен и народов» пришли тысячные толпы.

А Пастернак расплакался, когда увидел во сне, как много людей пришло на похороны уже не к вождю, а к нему, поэту. Это был сон, который он увидел в августе 1953 года. Там были строчки стихов, которые совпали с моими записями в прозе. Меня поразило: он увидел при жизни то, что мы, приехавшие в Переделкино, увидели после его смерти.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами…
…………………………………
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту
Показались дачи. Мы шли и шли. И это была уже не цепочка людей, а целая колона, огромная гудящая толпа. Мы шли, разглядывая издалека несколько отдельно стоящих дач. Дом поэта был окружен машинами, словно бензоколонка. Подъезжали новые машины, которым люди не сразу уступали дорогу. На повороте к дачам, на балкончике трансформаторной будки с крестом «Смертельно» стоял с кинокамерой японец. Слегка наклонившись вперед, он снимал нас. Я поднял руку, загораживая лицо, чтобы не попасть в иностранную кинохронику. Я уже понимал, что участвую не в литературном, а в политическом событии. Это было не прощание с умершим поэтом, а похороны-демонстрация.
Люди, пришедшие к дому Пастернака, выражали свое несогласие с теми публикациями в газетах, где называли поэта предателем.
Дача Пастернака стояла на краю картофельного поля. За дачей начиналась лесополоса.
Длинная очередь тянулась к дому. Мы тоже стали в эту очередь. Люди довольно быстро двигались к парадному входу. Около крыльца, в отдельно стоящей группе, я увидел Володю Гордейчева. Он специально приехал из Воронежа. Мы издали поприветствовали друг друга. Но я не вышел из очереди и он ко мне не подошел. Я был не один, с женщиной. Когда поднимались по ступенькам на крыльцо, увидел внизу у стены дома на лавочке Константина Паустовского. Он сидел сгорбленный, усталый от скорби, как человек, потерявший близкого родственника. Потом партийные функционеры подадут записку в ЦК КПСС. И в ней будет сказано:
— Из видных писателей и деятелей искусств на похоронах присутствовали К. Паустовский, Б. Ливанов, С. Бирман.
И на записке появится резолюция Н. Мухитдинова:
— Ознакомить секретарей ЦК
А как же, секретари должны знать, кто из деятелей культуры осмелился прийти на похороны опального поэта. Теперь это все опубликовано. И даже известны имена секретарей, которые ознакомились с важной информацией и расписались на документе.
Мы с Суламифью преодолели последнюю ступеньку и вошли в просторное помещение столовой. Гроб стоял на небольшом возвышении. Он был весь в цветах. Над гробом на стене — офорты, много офортов. Один особенно заметный. Полуобнаженная женщина, в розовых тонах, пытается закрыть прозрачным покрывалом обнаженные груди.
Высокий лысый человек, распорядитель похорон, торопил нас:
— Граждане, прошу вас, не задерживайтесь. Побыстрее!
Один из наших студентов-старшекурсников попытался сфотографировать Пастернака в гробу. Ему не дали. Какая-то женщина впереди нас бухнулась на колени. Иностранные корреспонденты тотчас же начали щелкать затворами.
Мы проходили мимо гроба, стараясь замедлить шаги, чтобы все получше рассмотреть. А в это время в соседней комнате звучала музыка. Пианист, не видимый нами, играл что-то очень медленное, трагическое. Интервалы между звуками были огромные. Казалось, что эти музыкальные пропасти ничем уже не заполнишь.Умер большой поэт.
Уже во дворе мы узнали от осведомленных людей, что играл профессор московской консерватории Генрих Нейгауз, у которого Пастернак увел жену, Зинаиду Николаевну.
Впоследствии по мемуарам родных и близких, в частности, Веры Прохоровой, я уточнил. В соседней комнате играли, сменяя друг друга, Рихтер, Юдина. Звучала музыка Шопена, Бетховена.
Нейгауз тоже играл, только не профессор, а его сын, Стасик, талантливый пианист, успевший к тому времени выступить в Париже.
Ирина Емельянова добавляет еще одного исполнителя. «Сменяя друг друга, непрерывно играли М.В Юдина, Святослав Рихтер, Андрей Волконский».
Это были похороны-концерт. Сын Пастернака от первого брака, Евгений, написал в своей книге: «Похороны стали незабываемым торжеством. Станислав Нейгауз, Юдина, Рихтер наполняли дом музыкой Шопена, Скрябина, Чайковского».
«Похороны стали Торжеством». Это, конечно, сильно сказано, но не о скорби. Дочь Ольги Ивинской и вовсе пишет, что «это были похороны-праздник».
Вслед за другими людьми мы вышли через черный ход в сад, обогнули дом и снова оказались у ворот.
Подъехал литфондовский автобус, чтобы везти гроб на кладбище. По ступенькам крыльца спустились, держа с двух сторон большой венок, недавние выпускники Литературного института Панкратов и Харабаров.
В записке, поданной в ЦК КПСС, информаторы не забыли упомянуть Ивана Харабарова, недавно исключенного из комсомола. Упор делался именно на то, что молодой поэт исключен из комсомола. Про Юрия Панкратова ничего не написали, он не был исключен из комсомола.
Какие-то не известные мне люди с трудом вытащили из дверей дома гроб. Из мемуаров родных и близких я впоследствии узнал: гроб по ступенькам крыльца снесли во двор два диссидента, Синявский и Даниэль, восемнадцатилетний сын любовницы Пастернака Митя Виноградов и друг семьи и одновременно друг Ольги Ивинской — Вяч. Вс. Иванов.
Автобус никак не мог подъехать к дому. Мешали машины и люди. Лысый распорядитель похорон с трудом уговорил машины отъехать, растолкал людей, освобождая коридор во двор. Но, едва гроб оказался во дворе, его подхватили сразу много рук:
— Не надо автобуса!
— Сами понесем.
— Дайте мне, подвиньтесь!
Желающих нести гроб оказалось слишком много. Автобус подъехал к крыльцу, но гроб пронесли мимо автобуса. В салон похоронной машины положили только крышку гроба и венки. Панкратов и Харабаров свой венок тоже положили в автобус и устремились за гробом.
Когда лысый распорядитель расталкивал нас, чтобы освободить место для проезда, Суламифь оттеснили от меня. Я потерял ее из вида. Пытался найти ее и в то же время не хотел отставать от процессии.
Дорога была пыльная, люди по дороге шли тесной толпой. Я вскарабкался на боковой холм и шел по нему параллельно процессии. Отсюда мне все хорошо было видно. Покойника несли на кладбище столько человек, сколько смогли уместиться с двух сторон у гроба. Последние два человека, поддерживающие левый угол, менялись каждые полминуты. Я видел, как Панкратов и Харабаров попытались оттеснить от гроба людей, державших угол. Но им не уступили место. И тогда они через головы тоже стали поддерживать этот угол, точнее, стали держаться за него.
Процессия шла довольно быстро. До деревенского кладбища, до крестов под соснами, было уже недалеко. Я обогнал процессию и занял место около ямы. Безымянная могила с покосившимся крестом служила небольшим возвышением, откуда можно было все видеть. На холмике стоял черноволосый парень в синей куртке. Я не решался топтать могилу, стоял в проходе. Но места между соснами было мало. Люди старались подойти поближе, начали напирать. И я шагнул на могилу с крестом. Потом стали цепляться и становиться рядом другие. Какая-то блондинка с растрепанной прической совсем забыла, где находится. Она одной рукой обнимала крест, а другой держалась за меня:
— Ой, я упаду!
Родные стояли впереди. Кто-то тихо сказал:
— Чем ближе, тем чужей.
Во второй половине дня, к моменту погребения, погода испортилась, набежали тучи. У Веры Прохоровой я потом прочитал: «Никогда не забуду: когда открытый гроб подняли перед могилой, вышло солнце». Непонятно: зачем поднимать открытый гроб к солнцу. Какое-то язычество.
Я этого не помню, не заметил выскользнувшего из туч солнечного луча, символически осветившего уходящего поэта. Людям иногда хочется, чтоб природа участвовала в их ритуалах.
Французский писатель Труайя со слов Ольги Ивинской рассказывает в своей книге о Пастернаке:
«В момент, когда закрытый гроб стали опускать в могилу, зазвонили колокола церкви Преображения Господня. Наверное, это было не более, чем совпадение. Но перепуганный распорядитель закричал:
— Скорее! Похороны кончились, это начинается нежелательная демонстрация».
Я не заметил луч солнца и не услышал колоколов. Возможно, так было. Все эти совпадения заметили люди, для которых «похороны стали торжеством» и «праздником».
Мемуаристы творят миф. А я присутствовал на реальных похоронах. Я видел и слышал другое.
С коротким словом выступил искусствовед, профессор Асмус:
— Отец поэта был художником, мать — музыкант. И поэтому основной темой творчества Бориса Леонидовича стало искусство…
Рядом с профессором стоял иностранец, корреспондент какой-то газеты. Он был большой, даже громадный, возвышался над всеми головами. И смотрел этот корреспондент как-то странно, в никуда, словно отсутствовал на похоронах. На его груди красовалась белая бабочка. Он вполне мог сойти за эстрадного артиста, который случайно сюда попал. Корреспондент тянулся рукой к выступающему, и я вдруг увидел: из рукава пиджака по запястью скользит проводок и заканчивается блестящей штучкой в ладони. Микрофон. Корреспондент несколько раз распахивал пиджак и что-то переключал. Аппаратура в небольшой сумке висела у него под полой пиджака. Микрофон полностью скрывался в руке. Звук поступал туда сквозь пальцы.
Профессор Асмус не видел, что его записывают. Едва он закончил говорить, из-за его спины выскользнул широкоплечий парень в клетчатой рубашке. Он закричал истерически почти в самый микрофон:
— От рабочих ему спасибо! Он хотел издать книжку, но ему помешали. Позор!
Потом появился бледный растерянный юноша. Он тоже говорил что-то взволнованным голосом, но очень тихо. Я его плохо слышал, мешала женщина, которая держалась за меня и норовила стащить вниз с могильного холмика.
Лысый распорядитель подошел к юноше:
— Товарищ, собрание закончено.
— Пусть говорит.
— Но собрание закончено.
— Дайте ему говорить!
— Не затыкайте рот!
Профессор Асмус объявил траурный митинг закрытым, и распорядитель суетился, пытаясь втолковать это собравшимся, но люди не расходились. Начали читать стихи Пастернака. От кривой сосны, под которой был похоронен поэт, шагнула к венкам и цветам худенькая, мертвецки бледная женщина:
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Она читала внятно, сильным голосом. Боялась читать слова «замученных живьем», но читала. Последовали вспышки блицев. Кинооператор, которого я и Суламифь видели на балкончике трансформаторной будки, теперь был здесь. Он направил свою камеру на женщину. Это не понравилось мужу. Он схватил корреспондента за руку так, что тот чуть не уронил камеру. Мужа оттащили в сторону, он начал драться. Но его все же как-то уняли. Смертельно бледная жена закончила чтение стихотворения «Душа» и была со стрекотом заснята для иностранной кинохроники.
В записке, поданной в ЦК КПСС, названа цифра пришедших на похороны Пастернака: около 500 человек. Возрастной и социальный состав — 150 -120 престарелых людей из числа старой интеллигенции. Примерно столько же молодежи, в том числе небольшая группа студентов художественных учебных заведений, Литинститут, МГУ.
Нас, студентов Литературного института, не забыли упомянуть и общим числом, и кое-кого по отдельности. Успокаивая свое партийное начальство, составители записки сильно занизили цифру присутствующих.
По свидетельству мемуаристов, да и по моему собственному восприятию, из Москвы и других городов приехали проводить в последний путь поэта несколько тысяч человек.
Может быть, распад Советского Союза и начался вот с таких тихих демонстраций.
16 июня 1960 года, то есть через две недели после похорон, К. Чуковский записал в «Дневнике»: «Когда спросили Штейна (Александра), почему он не был на похоронах Пастернака, он сказал:
— Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях». Да, именно так. Не все отчетливо сознавали, но это было антиправительственное выражение скорби.
Володя Гордейчев, с которым я успел поздороваться издалека, был на кладбище где-то рядом. Он видел то же, что и я. Эти впечатления отозвались в нем после похорон неожиданными метафорами. Могилу Пастернака он сравнил с окопом. И книгу свою назвал так, будто побывал во время боевых действий на Курской дуге» или под Сталинградом: «Окопы этих лет».
Когда и совесть ставят на кон,
Нам умиляться не к лицу.
Мы хоронили Пастернака
В столетнем мачтовом лесу.
Не моды ради – в ней ли доблесть? —
Мы шли за умершим не зря.:
В его стихах мы знали отблеск
Боёв во славу Октября.
В кольце качавшегося гула
Я брел, не ведая сполна,
Что многое перечеркнула
Поэта мёртвого вина.
Уже под соснами, к которым
Покойный хаживал не раз,
Я пригляделся к репортерам,
Свой бизнес делавшим у нас.
Они нацеливали «блицы»
И на откосе ветровом
Метали пламя в наши лица,
Как на краю передовом.
И кто-то, в жилистую руку
Взяв микрофон и выбрав нить
Шнура, держал его гадюкой,
Готовящейся укусить.
По метафорам даже талантливо. И это верный признак того, что Володя Гордейчев писал искренне. Стихи, верные в описании похорон, были неверны по отношению к тому, кого похоронили. Но я тогда не очень отчетливо это понимал. Я был такой же советский. Мы, советские, очень долго не могли отказаться от Октября. Есть это у Окуджавы «И комиссары в пыльных шлемах». Есть у Евтушенко, написавшего про Ярослава Смелякова: «Верит он в революцию убежденно и зло». Володя Гордейчев ценил у Пастернака революционные поэмы, но считал, что роман «Доктор Живаго» их перечеркнул. Самого романа он тогда еще не читал, доступны были только возмущенные отклики в газетах, но этого хватило, чтобы написать прямо на погосте:
И с неожиданною силой
Я ощутил, что мы стоим
Не над гражданскою могилой,
А над окопом фронтовым.
И что не мог забыть про схватку
В гробу покоящийся тот,
Кто продал недругу взрывчатку,
Заложенную в переплет.
Взрывчатку заложил в переплет не Пастернак, а Нобелевский комитет. Шведская академия в очередной раз присудила не художественную, а политическую премию по литературе.
Члены Нобелевского комитета (при существовании двух систем в мире) поступили, как учил Ленин: «Партийная жизнь — партийная литература». Пастернак, помимо своей воли, стал партийной литературой на Западе, и потому был объявлен предателем у себя дома.
27 октября 1958 года, через четыре дня после присуждения Нобелевской премии, в Доме кино состоялся митинг, на котором писательница Г. Николаева назвала Пастернака власовцем. На других собраниях и в газетах называли его лягушкой в болоте, сорняком. Есть такая трава, пастернак, растет на обочинах дорог.
Все эти ругательства на собраниях и в печати воспринимались, как отдаленный газетный шум. А стихи Володи Гордейчева, такого же воронежца, как и я, — это уже было близко. Я, выходит, стоял вместе с ним на краю окопа. И, делая записи о том, как тянулись кинокамерами и микрофонами к нашим лицам иностранные корреспонденты, похоже, создавал свои «окопы этих лет». От кинокамеры японского корреспондента я даже загородился рукой, как от опасности. Он стоял на балкончике трансформаторной будки, на которых обычно пишут: «Не подходи, убьет!»
Толпа с кладбища потянулась на станцию. На дороге я, наконец, увидел Суламифь, догнал ее. Она никак не хотела примириться с тем, что Пастернак умер.
— Мозг умирает последним, — немного устало сообщила она мне, — запах хвои, цветов раздражает обоняние, и сигналы поступают в клетки мозга. Наконец, удары комьев земли о крышку гроба. Все это должен ощущать покойник.
— Ты думаешь, остатки сознания сохраняются в мертвом теле?
— А как же. Почему некоторые покойники седеют?
Подошла электричка. Народу было много. Мы опять вынуждены были ехать стоя.
«Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет». Пастернак Б. Л.
Эдуард ПАШНЕВ






