Нетитулованный нобелянт
Обменяв с превеликими трудами ленинградскую квартиру на московскую, я оказался его соседом, окно в окно, как-то даже неловко — выходило, что подглядываю: вуайор поневоле. Особенно по утрам, когда Тоня уходила на работу, а Марина в школу: Фазиль метался по своей трехкомнатке, что зверь в клетке, а тому природой положено пройти энное число километров, и он […]
Обменяв с превеликими трудами ленинградскую квартиру на московскую, я оказался его соседом, окно в окно, как-то даже неловко — выходило, что подглядываю: вуайор поневоле. Особенно по утрам, когда Тоня уходила на работу, а Марина в школу: Фазиль метался по своей трехкомнатке, что зверь в клетке, а тому природой положено пройти энное число километров, и он их, несомненно, проходил: говорю про обоих.
Розовое гетто – наш писательский кооператив на Красноармейской улице – располагалось буквой П: я жил в одной ее «ножке» на седьмом этаже (д. 27, кв. 63), Фазиль — в противоположной на шестом (д. 23, кв. 104). В конце концов я высчитал — чтобы пройти всю квартиру насквозь и вернуться в исходную точку, к окну в спальне, Фазилю требовалось 47 секунд. Я ему сочувствовал — не пишется. Потом ходьба прекращалась, и я гадал, что отвлекло Фазиля: телефон или машинка? Иногда я встречал его в соседнем Тимирязевском парке — хороший такой парк, с мелкими, по сравнению с нью-йоркскими, рыжими белками. И снова было неловко, что вторгаюсь в его одиночные прогулки. Иное дело «официальные» встречи — мы часто виделись по поводу (дни рождения, Новый год, вплоть до наших проводов, когда мы вынуждены были подобру-поздорову убраться из России) и без оного: звали друг друга «на гостя», который являлся к кому-нибудь из нас, и приготовления все равно неизбежны. У нас – заурядный московский стол с питерским уклоном, зато у Фазиля мы испробовали весь кавказский разблюдник: лобио, хачапури, цыплята табака и прочие экзотические деликатесы, включая коронное блюдо — сациви, которое Лена Клепикова полюбила, а я возненавидел — из-за сопутствующей изжоги. Не говоря уже об аджике, будь она проклята! Не было тогда в Москве волшебных желудочных капсул, и я безуспешно пытался погасить содой пожиравший меня изнутри огонь. А теперь вот тоскую даже по этим куриным кусочкам, утопленным в орехово-чесночно-кинзовом соусе — и мгновенно, по-прустовски, вспоминаю Фазиля.
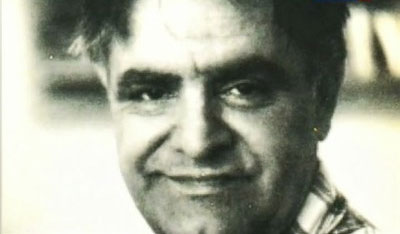
Сациви — мои мадленки.
Подружились мы, судя по его письмам мне в Питер, которые я раскопал в моем архиве, за три года до моего переезда из столицы русской провинции в столицу советской империи. Каждый мой наезд в Москву — а они становились все более частыми, пока я не перебрался окончательно (в моем случае это означало пару лет вплоть до отвала «за бугор») — заходил к нему в гости. Разговор обычно кончался застольем, хотя общие знакомые говорили, что настоящего Фазиля, выпивоху и гуляку, я уже не застал. Женя Ряшенцев рассказывал мне захватывающую историю, как они с Фазилем, вдрызг пьяные, ползут по краю обрыва где-то на Кавказе, и один спасает другого от падения в пропасть. Я пытался пересказать эту историю Фазилю, но он сказал, что ничего не помнит — был в отключке. Таким я Фазиля действительно не знал. Но все равно у меня, как читателя и критика, прочное ощущение, что знаю Фазиля давным-давно — с тех самых пор, как прочел его первые вещи.
«Спасибо за статью в “Дружбе народов” — она меня обрадовала и доставила истинное удовольствие. Хотя люди, хвалящие нас, всегда кажутся тонкими и проницательными, на этот раз уверен, что статья хороша вне похвалы и вне меня»,— писал он мне летом 73-го. Я опубликовал о нем с полдюжины статей — в «Новом мире», «Звезде», «Неве», «Дружбе народов», «Юности», нью-йоркских «Новом русском слове» и «Русском базаре», но именно рецензия на «Ночь и день Чика» понравилась ему больше других, я их тогда соединил впервые – «День Чика» был издан в Москве, а непроходимая ввиду психоаналитической изнанки «Ночь Чика» чудом проскочила в ленинградской «Авроре» благодаря героическим усилиям редактора отдела прозы Елены Клепиковой. – «…та твоя статья — образец критической работы, тонкости понимания самой сути художественной ткани», — писал Фазиль в другом письме и добавлял, что в статье о «Сандро из Чегема» нет «…той стройности и законченности, которой отличается твоя рецензия на Чика… Видимо, чудовищная обрывочность того, что напечатал “Н.м.”, сбивала тебя и не могла не сбить с толку».
На деле под видом рецензии на новомировского кастрата я пытался протащить статью о рукописном оригинале, но что не позволено даже Зевсу, сиречь Юпитеру (Фазилю), тем более нельзя было быку (мне).
О предстоящей публикации своего opus magnum Фазиль сообщил мне заранее:

«Самая, на мой взгляд, зрелая вещь «Житие Сандро Чегемского», которую собираются в чудовищно обрезанном виде давать в «Н.м.». Здорово мне все это портит кровь, потому что много вложил в нее, а пока идти на скандал (довольно крупный, учитывая полученные деньги, рекламу и т.д.) не решаюсь. Авось цензура дотопчет, может, и решусь… Посмотрим».
Цензура дотоптала, «Сандро» вышел в урезанном, искалеченном виде — без великолепной главы «Пиры Валтасара» (лучший, на мой взгляд, образ Сталина в мировой литературе), а Фазиль все не решался. Он болезненно переживал и то, что сделали с его любимым детищем, а еще больше — что сам позволил редакторам и цензуре себя оскопить. Пошел на компромисс, в то время как его товарищи по перу, среди них друзья, шли на разрыв с официальной литературой. Литературная драма сублимировалась в семейную, и то, что Фазиль с ней худо-бедно справился и обуздал себя, говорит не только о его мужестве, но и о высоком моральном духе. В художественно преображенном — и искаженном — виде я рассказал о тогдашнем расколе среди московских писателей в повести «Сердца четырех»: ее персонажи — не совсем сколки с реальных людей, много художественной отсебятины и камуфляжа.
Точнее сказать: я маскировал друзей и знакомых как мог, меняя имена, внешность, этнос, curriculum vitae, но не суть и не судьбы. Фазиля, к примеру, из полуабхаза-полуперса превратил в караима Саула — с его собственной, правда, подсказки: у него есть где-то про дядю-караима, вот я и доразвил. По размеру вышла повесть, а жанр указан в позаголовке: эскиз романа. Потому что на сам роман у меня не хватало ни материала, ни времени, ни желания, ни духа. Характеры — по личным наблюдениям, а сюжет — из признаний, слухов и домыслов. Другими словами, из сплетен, апологетом которых, как читатель уже знает, я являюсь. То есть сплетни — это, конечно, полемическое преувеличение. Я знал эту историю со слов ее участников, особенно подробен был Камил Икрамов (в повести Тимур), но и Фазиль с Володей Войновичем (в повести Кирилл) кое-что существенное добавили, я уж не говорю о женах и разведенках, а потом, когда повесть была напечатана — массовым тиражом у Артема Боровика в ежеквартальнике «Детектив и политика», в нью-йоркском «Русском базаре» и в моих московских книгах «Призрак, кусающий себе локти» и «Мой двойник Владимир Соловьев»,— наверняка жалели о своей откровенности.
В то время даже я, по cоветским стандартам вполне преуспевающий критик, историк литературы и член Союза писателей, почувствовал, как мне тесно в цензурных рамках отечественной литературы, и сочинил на питерском материале исповедальный и покаянный «Роман с эпиграфами» — «Три еврея»: о КГБ, о Бродском, о питерской атмосфере страха и удушья. Фазиль вернул мне рукопись с запиской, которая начиналась со слов «Замечательная книга», а дальше шли восемь мелких замечаний, из которых семь я учел, а восьмым — убрать матерщину — пренебрег. Так же, как его императивной просьбой по поводу самой записки: «Уничтожь!»
Это был мой первый роман, и получить такой отклик от писателя, которого я считал не только другом, но и классиком, было большой для меня поддержкой. (Есть, конечно, некий парадокс-анахронизм в том, что другой классик — Герцен — взял фамилию Фазиля себе в псевдоним.)
После того, как мы наладились на отъезд, а Фазиль был, понятно, в курсе, он вел себя по отношению к нам безукоризненно. Даже когда мы с Леной вступили на диссидентскую стезю, образовав первое в советской истории независимое информационное агентство «Соловьев—Клепикова-пресс», нас перестали печатать и мы лишились писательских гонораров, Фазиль одолжил нам крупную по тем временам сумму, которую мы вернули, как только получили обратно взнос за кооперативную квартиру. Правда, все это было сделано тайно, и Фазиль взял с меня слово до поры до времени никому об этом не говорить, а то подумают, что он финансово поддерживает инакомыслящих.
В промежутке между этими денежными операциями информационные бюллетени «Соловьев—Клепикова-пресс» стали публиковаться в мировой прессе, и Фазиль, зная, что наш телефон теперь прослушивается, начал заходить без звонка. Зато — каждый день, а то и по нескольку раз. По своей природе я спринтер, а потому наша политическая активность продлилась недолго. К счастью — в противном случае мы загремели бы не на Запад, а на Восток. Кой-кому, однако, показалось, что мы затягиваем с отвалом, и Фазиль нас однажды попрекнул, что мы подводим друзей, ставя тех, кто выбрал иной путь, в сложное положение. Тогда я обиделся — мы засветились, были на виду, о нас трезвонили вражьи голоса, около нашего подъезда круглосуточно дежурила черная «Волга» с затемненными окнами, поступали анонимные звонки с угрозами, на Лену было покушение, мы и так были париями, а тут еще выслушивать подобные упреки от близкого человека. Потом, спустя годы, я стал лучше понимать Фазиля: в тех, кто шел на конфронтацию с властями — будь то диссидентская деятельность либо просто подача заявления на эмиграцию, — была и в самом деле некоторая безоглядность, бесшабашность, в то время как остающиеся вынуждены были примеривать свой жизненный modus vivendi к обстоятельствам.
Полный вариант «Сандро из Чегема» вышел у Профферов в мичиганском издательстве «Ардис» спустя шесть лет после новомировской публикации, когда мы уже жили в Америке. Спустя еще десять лет прибыл на пару дней в Нью-Йорк и сам автор. Я боялся этой встречи — оказалось, зря: мы провели вместе несколько дней, как будто расстались только вчера.
Что меня поразило — в тот его приезд и в последующие — невосприимчивость Фазиля к новому, а в итоге — неприятие. Показываю ему Манхэттен — он торопит меня к нам домой к обещанной метаксе. В нью-йоркском сабвее по-московски домашним жестом кладет руку на плечо стоящему перед ним чернокожему и даже не обращает внимания, как тот окрысился. На Джонс-Бич, куда я повез его вместе с Тоней и Сандро, ввинтился в спор, доказывая мне, что нет принципиальной разницы между морем и океаном, который видит впервые, но исключительно количественная, и только когда океанская волна с головой накрыла его и разок-другой мощно крутанула, с трудом, пошатываясь, выбрался на берег и согласился, что Атлантический океан — не Черное море. Уже у нас дома, за столом, предлагаю ему виноград без косточек, и он тут же опять ввинчивается в штопор спора — что виноград без косточек быть не может по определению, как бы он тогда размножался?
— Да ты сначала попробуй! — говорю я этому виноградному знатоку виноградной Абхазии, родины «изабеллы». Впрочем, виноград без косточек я встречал еще у Мериме.
А за Фазилем я замечал это еще в Москве — его черепок переполнен впечатлениям детства и не сразу откликается на новые. Перебравшись в столицу, он так и остался вне тусы, чужаком, аутсайдером, изгоем. Короче, лицом кавказской национальности.
Вот причина его прокрастинации с изданием за рубежом «Сандро»: Фазиль уже совершил гигантский бросок, не только географический — с Кавказа в имперскую столицу, но и в русскую культуру; на еще один у него не хватало ни сил, ни мужества, ни душевного ресурса. Само собой, имею в виду не отвал из страны, а разрыв с официальной литературой. Тот скандал, о котором он мне писал в письме и на который так и не решился, и был тем самым выбором-риском, гениальную формулу которого вывел Паскаль: там, где в игру замешана бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, надо все поставить на кон.
Трагедия Искандера-писателя в том, что, если бы не его гамлетова нерешительность, большой талант соединился бы с исторической судьбой, и русских нобелевцев по литературе стало бы одним больше. Да, убежден: Фазиль Искандер — несостоявшийся нобелевский лауреат, пусть это и внешний показатель.
Они там, в Стокгольме, любят нацменов, которые жизнь своего народа превращают в миф, пусть и не на своем, а на великом, могучем, правдивом и свободном. Увы, Фазиль так и не стал тем, кого у нас тут, в Америке, называют the right man at the right time. Он опоздал, время вышло, поезд его судьбы скрылся за поворотом.
Как когда-то в Москве, в ЦДЛ, у меня даже афиша сохранилась с того вечера, я делал теперь вступительное слово к его нью-йоркскому вечеру, который я же и организовал. Вдруг Фазиля понесло, и этот нетитулованный нобелянт стал отрицать забугорную русскую литературу. Кого он убеждал — слушателей или самого себя? Отторжение забугорных русскоязычников — отсиделись, мол, по америкам, франциям, германиям и израилям, пока мы там г… хавали, а теперь потянулись, шаромыги, на шару, на халяву, на готовенькое, в родные пенаты? Может, и сложнее: мигрантская трещина русского литературного мира прошла через Фазилево сердце, рана не заживала.
Последовавшие затем до глубокой ночи посиделки у нас казались еще одним знаком непрерывности наших отношений, несмотря на такой провал времени и пространства. Немало тому способствовала и семизвездная метакса. Он выпытал у меня то, что не удалось даже Довлатову,— точную сумму аванса, который мы получили за книгу об Андропове (американские газеты обтекаемо называли его «шестизначным», а «Известия» обобщали до миллиона — если бы!). «Милым и дорогим Леночке и Володе в память о нашей дружбе, которой, я думаю, не будет конца»,— надписал он нам книгу своих стихов.

А тогда, в Москве конца 70-х, было время эмиграции самих писателей либо их книг: к примеру, «Верный Руслан», «Чонкин» и «Ожог» были опубликованы на Западе задолго до того, как туда перебрались их авторы. Эмиграции писательских тел предшествовала эмиграция их текстов. Для Фазиля проблема выбора была более сложной, чем для других. Однажды он уже эмигрировал — из Абхазии в Россию. Москва была для него чужбиной, а исторической, географической и какой угодно родиной навсегда остался Чегем.
То есть Абхазия.
Точнее — Искандерия.
Пользуюсь названием городка на юг от Багдада, чтобы обозначить страну, которой нет ни на одной карте — она вымышлена автором из детских импульсов, снов, слез и грез. С действительностью связана не больше, чем Фивы царя Эдипа и Антигоны с реальными Фивами, как Иерусалим Давида и Соломона или Афины Перикла и Фидия — с нынешними Иерусалимом и Афинами. Как жизнь с мифом. Единственному из совковых писателей, Фазилю Искандеру удалось мифологизировать сплетни, анекдоты, сказания и реалии своего племени, хотя аналогичные поползновения были у писателей-деревенщиков (особенно у лучшего из них — Василия Белова), у Гранта Матевосяна, Юрия Рытхэу, Анатолия Кима, Петра Киле и других «нацменов». Но они так и повисли между небом и землей, оставшись классными прозаиками. Что тоже немало.
Прожив большую часть жизни в Москве и будучи в ней лучшим русским прозаиком (даже если пик литературной деятельности этого шестидесятника-октогенария давно уже был позади), Фазиль всегда чувствовал себя в русской столице одиноко, на безлюдье, на сквозняке: «Отсутствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее». Москва — диаспора Искандера, отсюда это чувство незащищенности, неуюта, сиротства и страха. Тогда как Чегем — некая опора либо (пусть так) ее видимость. «Лене и Володе — братски — новым американцам от старого чегемца», «Леночке и Володе — для меня вы из редчайших, кого зачисляю в чегемцы» — из десятка автографов на подаренных нам книгах чуть ли не каждый второй со ссылкой на его историческую родину, а в одном, когда мы уезжали из России, Фазиль помянул своего Бога: «Леночке и Володе — дружески обнимаю с пожеланием счастливой судьбы в новой неведомой жизни. И да благословит вас Аллах!»
Не то чтобы Фазиль считал народ, из которого вышел — обитающих в Абхазии мифологических «чегемцев»,— избранным, хоть и сложил о нем свое пятикнижие: рассказы, повести, три тома «Сандро из Чегема» и «Ночь и день Чика». Менее всего хотел бы он возвратиться на эту свою, скорее, метафизическую, или, как ныне принято говорить, виртуальную родину. Как ни силен племенной инстинкт, писательский инстинкт удерживает Фазиля вдали от родины. Ср. с Джойсом — тот и вовсе заказал себе путь назад в Дублин и даже на похороны матери не прибыл. Не только из отвращения к ирландской местечковости — скорее, из инстинкта писательского самосохранения: память сохраняет образ, а зрение его колеблет, искажает, сглатывает. Думаю, живи Фазиль в Абхазии, не стать бы ему таким значительным писателем, каким стал он в России. Лучшая его проза — это следствие, а еще точнее — след, оставленный его ностальгией — по родине? по детству? по утраченному времени? по виртуальной реальности? «И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту», − не без зависти писал автор «Зависти». Ибо Олеше это как раз не удалось — по крайней мере, в том объеме, как хотелось. Из русских прозаиков прошлого века разве что Бунин и Набоков вполне реализовали в литературе эту прустовскую мечту, причем последний не только в полумемуарном «Даре» и жанрово чистых мемуарах «Другие берега» (в нашем контексте больше подошло бы английское название «Speak, Memory»), но и чуть ли не в каждой книге, щедро раздавая свои юные годы вымышленным героям, кроша и кромсая тогдашние впечатления, о чем потом жалел. Не сделай он этого, «Другие берега» вышли бы втрое-вчетверо толще. Вспомним семитомный пробег обратного времени у родоначальника этой прозы Пруста.
«Усладить его страданья Мнемозина притекла» — Пушкин не разъясняет, справилась ли богиня памяти с поставленной задачей. Но не будь страданий, не было бы ни Мнемозины, ни литературы.
Олеше так и не удалось пройти назад по жизни, зато Бунину с Набоковым — удалось. Из современников – Фазилю Искандеру. Единственному.
Фазиль Искандер был одним из писателей эпохи застоя. Мне вообще кажется, что в брежневское время в Советском Союзе были написаны прекрасные книги. Это время оказалось для литературы более плодотворным, чем предшествующее хрущевское и последующие — горбачевское, ельцинское, путинское. Зерно было брошено в землю в «оттепель», при Хрущеве, а взошло при Брежневе, в самое, казалось, неподходящее для литературы время. Нет-нет, я далек от желания снова увидеть на русской литературе цензурный намордник.
При том, как читателю известно из моих книг, я не отношусь апологетически ко всем, скопом, шестидесятникам, которых прозвал евтушенками, не знаю, привьется ли этот мем. Ну, типа как имя великого футболиста стало обозначением любого футболиста либо футбольного фаната вообще: пеле – с маленькой буквы, либо имя великого физика – единицей измерения силы тока: ампер. Вот я и превратил имя собственное в имя нарицательное – евтушенко, и расширил это эмблематичное понятие применительно к знаковым именам эпохи, его однокорытникам не только по литературному, но и по культурно-политическому цеху. Кто спорит, условность, но ничуть не более, чем понятие «шестидесятник». Без вопросов! Порядок.
На этой евтушенковской шкале есть, понятно, лучшие и худшие евтушенки, и есть евтушенки не только хуже, но и лучше Евгения Евтушенко. Ничего уничижительного, да и не те это категории «лучше-хуже», в которых я рассматриваю представителей шестидесятничества. Так вот, «евтушенко» Фазиль Искандер — явление индивидуальное и уникальное, для которого приписка в литературном паспорте не значила ровным счетом ничего, а числитель важнее знаменателя. Либо ему удалось вырваться из плена 60-х, порождением которых он, несомненно, является. На этой евтушенковской шкале Фазиль Искандер был лучшим из евтушенок. А может, он и вовсе не евтушенко?
Владимир СОЛОВЬЕВ, Нью-Йорк





