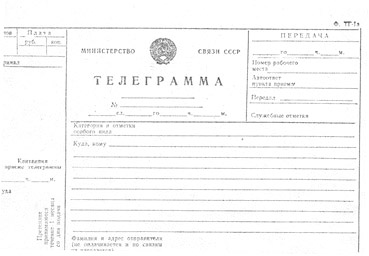Ромашки в моем сердце
Жизнь торопит, катится, До конечной рукой подать, Времени нет у меня на мелочи тратиться, Я спешу мой долг отдать. Срок моей путевки заканчивался через три дня. Я уже скучал по семье, хотелось увидеть родителей, надоело вялотекущее однообразие. Что-то тревожило меня, на душе было муторно, настроение скверное, и я подумывал о досрочном отъезде. А тут еще этот сон, теплая ладошка мамы гладит […]
Жизнь торопит, катится,
До конечной рукой подать,
Времени нет у меня на мелочи тратиться,
Я спешу мой долг отдать.
Срок моей путевки заканчивался через три дня. Я уже скучал по семье, хотелось увидеть родителей, надоело вялотекущее однообразие. Что-то тревожило меня, на душе было муторно, настроение скверное, и я подумывал о досрочном отъезде. А тут еще этот сон, теплая ладошка мамы гладит мою голову. Как в детстве…
Проснулся в растрепанных чувствах, но киснуть было некогда, и около девяти я стоял у крыльца почты в четырех километрах от пансионата. Подошла сельчанка, поздоровалась – добрий ранок – и по-свойски завозилась в палисадничке перед окнами почты. Связистка явилась в половине десятого. Между женщинами завязалась неспешная беседа. Я открыл, было, рот, но сработал независимый от разума мужской менталитет. Я завидовал собственным глазам!
Буйные прелести шолоховской молодайки, казалось, вот-вот выпрыгнут из женских доспехов. Сквозь простенький ситец угадывались формы, в которые Творец вложил всю свою Святую Душу, однако, и на светские чувства был необыкновенно щедр. Хилый ветерок вертелся возле ее ног, приподнимал краешек платья и вместе с ним, обессилев, нагло прижимался к стройным икрам.
Каштановые с рыжинкой волосы были убраны в большой кокетливо растрепанный куст, отчего округлый подбородочек казался заносчиво приподнятым. Высокий крутой лоб, на котором жизнь еще не расписалась, сиял словно нимб. Перед ним, как бабочка над огнем, трепетала случайная прядка, которую хозяйка вздувала очаровательным женским манером. Изящные полупрозрачные ушки легко было принять за ювелирные украшения штучной работы, времен Больших Яиц.
Наконец, разминка язычков закончилась, щелкнул замок, протяжно скрипнули навесы и женщины скрылись за дверью. Переведя дух, я последовал за ними. Сельчанка оказалась уборщицей, и вскоре помещение почты, похожее на большую горницу, пахло свежевымытым полом.
Я положил на барьер бланк телеграммы. Телеграфистка прочитывала исторгнутую аппаратом ленту, ловко отрывала нужные части, клеила на бланки и расписывалась. На полных локтях появлялись трогательные ямочки-кратеры; манжеты фонариков, на зависть мне, крепко обнимали розовую мякоть предплечий. Молочные щеки пылали румянцем, замешанном на молодой крови и женских соках.
Сокровенные чувства, втиснутые в лаконичные строки, трогали связистку. Брови хмурились и удивлялись, перламутровые зубки прикусывали губу, оставляя недолгие следы.
Дошла очередь моего бланка. Я попросил учесть знаки препинания, хотелось, чтобы текст читался выразительно. Небрежное движение плеч означало согласие. Положив квитанцию на барьер, почтовая дама взмахнула пушистыми венчиками, осенив меня первозданной лазурью. Очевидно, содержание телеграммы показалось ей необычным.
Я иду по узкому деревянному настилу мимо резных штакетников. Над ними словно огромные опахала, виснут зеленые кроны. Из них выглядывают бордовые шарики черешен, крупные, в желтом бархате персики; полированные, как бильярдные шары яблоки. Из глубин дворов доносятся звоны кастрюль и посуды, грудное кудахтанье и хриплые фальцеты бдительных хозяев гаремов; сытое хрюканье, как послеобеденная отрыжка. И над всем витает певучий украинский говорок.
Яркие почтовые видения гаснут. Я думаю о родителях. Телеграмму им доставят в 5–6 вечера. В это время они с соседями сидят напротив подъезда. Родители прочтут телеграмму, посмотрят друг на друга и улыбнутся. И, конечно, дадут прочитать соседям. Хвастунишки… Соседи скажут – какой у вас сын! У мамы от глаз разбегутся морщинки-лучики и она ответит добром – у вас тоже чудные дети. (Здесь и далее автор использует прием передачи прямой речи средствами косвенной. – Прим редакции)
Это была традиция. Мои дни рождения часто приходились на время отпуска и я непременно слал родителям благодарственные телеграммы. Я знал, они хвастались ими, даже чересчур, но не выговаривал им, пусть радуются. После смерти отца я нашел в его бумагах семь моих телеграмм и видно было, их перечитывали по многу раз…
В послеобеденное время жизнь в пансионате вялая, размытая. В деревянных саркофагах знойно. На верандах в креслах пропотевшие борщом фигуры, как студень; лица без признаков. Иду к морю. Оно встречает монотонным шелестящим плеском вялого пенистого прибоя и выброшенными на берег телами.
Полулежа, бездумно выгребаю ладонью податливый песок. Чтобы быть ближе к звездам, гласит древняя мудрость, достаточно встать с коленей. Согласно антитезе, умничаю я, чтобы быть ближе к ядру, достаточно по локоть углубиться в песок. Вдохновленный научным посылом, продолжаю необычное пляжное занятие. На стенке воронки темное пятно. Выковыриваю надкусанную шоколадную конфету. Вдавливаю в песок. Мимолетный аромат шоколада. Надо же… В воронку скатывается жирный лакированный муравей. Безуспешные лихорадочные восхождения. Будь у него мозги, он понял бы, что обречен. Очевидно, им руководит инстинкт. Инстинкт же, возвышаюсь я в собственных глазах, сильнее разума. Подставляю муравью прутик. Он мгновенно оказывается на поверхности и пометавшись, зарывается в песок, оставив за собой могильный холмик. Значит, ему нравится жить в песке, но он хочет зарыться по собственной воле. А для этого, высокопарно рассуждаю я, нужна свобода. И муравей ею распорядился.
Муравей… инстинкт… шоколадная конфета… Перегрелся, подумал я и решил поплавать, чтобы вытряхнуть из себя эту шизофрению. На воде покачиваются разноцветные буйки – шапочки, косынки, кусты голов; Йорики в солнечных бликах. Вода возле берега мутная и теплая, как в тазике общего пользования.
Обреченно плетусь в номера. Солнце висит над горизонтом, излучая прощальный яростный жар. Серое отечное небо в сивушных облаках ложится на плечи сухим горячим компрессом. Под ногами пылится пересохшая, в трещинах, кожа Земли. Я иду сквозь строй вислоухих стеблей кукурузы, обвешанных гирляндами тщательно упакованных кочанов. Из них торчат кисти, о назначении которых можно думать что угодно.
Многочлены, ожидающие искусительниц, просыпается моя подружка Фантазия. Неплохо, хвалю я ее, и ускоряю шаги. Вечером придут гости. Кроме непринужденности и легкомыслия, которых будет более чем, мне надо еще кое-что приготовить. В столовой томится мясо для шашлыков; в холодильнике ждут своего часа бутыль вина и терпкая солоноватая брынза из наших краев.
У входа в пансионат покупаю укроп, молодой лучок, огурцы в гусиной коже, помидоры «бычье сердце». С двумя газетными кулями иду к своей обители. Куль в левой руке взбухает влажными буграми. Из них выклевываются светло-фиолетовые щеки помидоров и зеленые попки огурцов. Судорожно прижимаю куль, тем самым ускоряя его крах. Помидоры и огурцы припадают к своей родительнице. Два «бычьих сердца» раскалываются; радужная мякоть аппетитно искрится. Где вы, monsieur Manet?..
Я отрешенно смотрю на скомканный газетный куль, а мозг высекает искры-видения: из куля сыпятся конфеты, от запаха шоколада кружится голова… Ступеньки хлебного магазина; мама в нелепом отцовском пиджаке… Кладбищенские ворота…
Последние часы дня – калейдоскоп эпизодов. Тосты, глухие звоны стаканов, смех. Наконец, по-мужски скорая уборка. Шипение залитых водой углей, прощальные струйки ароматного дыма; крупинки золы, гаснущие на взлете. Гости расходятся, сосед деликатно оставляет меня одного. Мечусь по деревянному квадрату, швыряя в чемодан все, что попадает под руку. Коленом вдавливаю гору вещей, к отъезду их вдвое больше. Щелкают замки, я бросаюсь на кровать. Память бушует, раскалывая череп, духота перехватывает горло. Зарываюсь в плетеное кресло на веранде.
На вогнутой чаше аспидного безбрежья – такое только над морем и пустыней – дурачатся звездочки. За ними присматривает опытная бонна Луна. Старушка знает, любопытные малышки легко поддаются соблазну любви. В ней они расцветают и светятся ярче. Но, случается, гаснут. Навсегда…
Монотонное мерцание небесных светлячков утомляет глаза; рой воспоминаний свертывается в ком, усталость наркозом растекается по телу.
В семь утра трясусь в стареньком автобусе. Повезло. Дважды в неделю в пансионат завозят продукты из Б. Днестровского. Перрон полон, ждут рабочий дизель. На каждой остановке пополнение. Теснота, женщины возмущенно постреливают глазами, мужчины индифферентно пожимают плечами – сзади напирают.
Шумный одесский вокзал. Угольная гарь и запах копченой скумбрии. Пышнотелые загорелые буфетчицы в крахмаленых чепчиках, знаменитые одесские шоколадные торты. Паустовский, Бабель, Беня Крик… И опять остановки у каждого столба. Я стою в тамбуре и тороплю машиниста – скорей, скорей…
Поезд замедляет ход, вписываясь в дугу поворота. Лязг буферов. Протискиваюсь сквозь толчею вокзала. Вот он, мой Белый город!
В гастрономе рядом с домом покупаю «Белочку», «Мишку», «Ну-ка, отними», «Каракум». Конфет должно быть много. Как тогда…
С порога вру – хочу подарки! Дети одаривают, жена ждет правду. Умница! Чутье! В кухне признаюсь. Семья знает эту историю. Прошу жену – приготовь конфеты, вызови такси. Под холодными струями успокаиваюсь. Представляю, жена снимает обертки, кладет конфеты в целлофан и все в газетный куль. Как тогда…
Удивленные родители. Отец сурово – почему прервал отпуск, целый год работать. Отец… Мама целует – ты здоров, что-то случилось? Мама!.. Отец теребит упаковку с валидолом. Протягиваю маме куль. На переносице две складочки – что в нем? Отгибаю угол. Комнату заливает аромат шоколада. – Почему, зачем? Мамины любимые «Театральные». Отец возмущается – кому столько конфет, почему в газете?.. Пахнет валидолом.
Я кладу конфеты на стол и пристально глядя маме в глаза, возвращаю ее в далекий послевоенный год.
Мулька, ты забыла? Кошелек, конфеты, кладбище… Забыла?..
Складочки на переносице расходятся… Вспомнила…
Ты не забыл, сынок?.. Столько лет прошло… Ты простил меня?
Простил ли я ее?
Мулечка, миленькая, ТЫ прости меня… Какой же я был дурак…
Я обнимаю худенькие плечи, целую седую головку и думаю, как много моей вины в этих сединах…
Мама молчит. Прижавшись щекой к моей груди, она слушает биение сердца, которое взрастила в себе, наполнила материнской кровью и напутствовала на всю жизнь – бейся… бейся…
Я плачу. Маленькая ладошка гладит мою голову: ну, все, сынок, все… И я не отодвигаюсь и не ворчу, как в 15 – ну… мама…
Эта ласка – прощение за ненависть и злость, вспыхнувшие во мне в мартовский день 48-го.
1948 год. Середина марта. Покончив с уроками, читаю повесть о малолетнем герое трудового фронта. Я завидую ему и представляю себя на заводе. Пожилой рабочий передает мне секреты мастерства. Я стараюсь и, наконец, выполняю план. Мастер жмет мою руку. Крепко, по-рабочему. Вместе со всеми я стою в очереди к окошечку кассы. Вечером отдаю родителям зарплату, продовольственную карточку – рабочую! – и облигацию Госзайма. Мой вклад в дело победы!
Жаль, война закончилась и мечты мои не сбудутся.
В комнату заглядывает мама. Сынок, ты сделал уроки? Надо купить хлеб.
С тех пор, как отменили карточки, хлеб моя забота. Карточки мне не доверяли. В прошлом году соседская девочка потеряла талоны на хлеб. Ее мама страшно кричала, бегала по двору, билась головой о стены и рвала на себе волосы. Девочка бежала за ней – мамочка… мамочка… Ночью она повесилась, но мама успела схватить ее за ноги и опять страшно кричала. Соседи сняли петлю, но в шее девочки что-то сломалось, и ее голова всегда смотрела чуть в сторону. А у мамы остались лысые места.
На самокате до хлебного меньше минуты, и я мчусь, предвкушая удовольствие. Всякий раз, выйдя из магазина, я отламываю угол буханки, мну его и запихиваю в рот. Почему-то всегда отламывается больше, чем помещается. Сразу жевать нельзя, корка острая, как стекло, и ранит десны. Надо выпускать побольше слюны, чтобы корка размякла, но ждать нет терпения, и я жую, и десны кровят.
В это время очереди почти нет. На пару минут самокат можно оставить на улице. Приставляю его к стене, передний подшипник в ямке, чтобы не откатился.
Возле ступенек лежит кошелек с желтым ободком и двумя шариками-защелками. Оглядываюсь, – никого! Сжимаю кошелек в руке. Смыться! Быстро смыться!
Врываюсь в кухню. В казане на примусе булькает вода, пахнет морковкой, луком, картошкой. Захлебываюсь словами: мама… кошелек… возле хлебного… нашел…
Что значит нашел? Где ты взял кошелек? Из-за шипения примуса она не услышала.
Мама, я нашел кошелек возле ступенек хлебного. Открой его. Там деньги. Мы купим все, что захочется!
Сынок, у кого-то горе, беда, кто-то плачет, понимаешь?
Нет, я не понимаю, не хочу понимать. И я ору – мама, я не виноват! Потеряли, значит, ничей. Ничей! Любой мог найти его. Но нашел я. Мне повезло, мне!
Сынок, не кричи, я не глухая. Ты не виноват, но нельзя радоваться, если у кого-то горе, беда, несчастье.
Она гасит примус и одевается. Мы стоим возле хлебного. Мама держит кошелек перед собой, двумя пальцами. Как будто он грязный… С ней здороваются, она не отвечает. Подумают, ненормальная. Мне стыдно, она похожа на нищих, стоящих у ворот кладбища, в которые упирается наша улица. Старый папин пиджак, бурки, из которых торчат ножки-прутики. Серый платок, перевязанный на груди крест-накрест, под глазами темные пятна. Маленькая старушка, хотя она совсем еще не старая.
Мама, хочешь, я положу кошелек возле ступенек, где он лежал. Хочешь? Может быть, его найдет тот, кто потерял. Только не надо здесь стоять… И вдруг, не знаю почему, – мама, возьмем немного денег на конфеты? Совсем немного, чуть-чуть, только на конфеты. И я положу кошелек возле ступенек. Мама, пожалуйста…
Мама смотрит на меня, как будто никогда не видела. Глаза вспотели, губы дрожат, и кажется, она сейчас заплачет. Чем я обидел ее? Она взяла меня за руку, – сынок, дорогой, конечно, конечно, купим конфеты. Идем, дорогой, идем.
Через дорогу, напротив хлебного, гастроном. Мама занимает очередь. На длинной полке в коробках, уложенных хрустящей бумагой, конфеты, печенье. В одной коробке конфеты, о которых я мечтаю со дня рождения одноклассника. Шоколадные, ребристые, без оберток. Я съел две штуки и не могу забыть их вкус и запах. Говорят, они соевые. Не знаю, что значит соевые. Главное – вкус! И запах, от которого может закружиться голова. Я пригнулся к маме, купи шоколадные, «Кавказские».
«Кавказские»?.. Бедная, она не знает, что есть такие конфеты…
Я заставлю родителей съесть несколько конфет. Они, конечно, откажутся, но я скажу – тогда и я не стану есть. Только бы хватило сил сдержать слово.
Я попрошу маму положить конфеты в кастрюлю с крышкой. Чтоб сохранился запах. Когда мама поднимает крышку кастрюли с супом, я вдыхаю вкусный запах пара. А мама вздыхает. Почему надо вздыхать, когда мне приятно? Я буду радоваться, если моим детям будет приятно и хорошо.
Я никогда не буду запивать конфету чаем. Надо быть дураком, чтобы «Кавказские» запивать. Родители пьют чай из блюдца вприкуску не потому что дураки. Просто сахар не шоколадная конфета. Ее надо есть не спеша. Я перекушу конфету пополам, прижму половинки к щекам и закрою глаза. Чтобы не отвлекаться. Конфета размякнет, во рту будет вкусно и сладко. И я начну понемногу заглатывать густой шоколад. Медленно, очень медленно. Иначе вкус сразу уйдет в живот.
Рот наполняется слюной, она выходит, как из фонтана. Я громко сглотнул. Слюны много, я не успеваю проглатывать. Началась икотка, трудно дышать. Очередь и лампочка закачались, пол перекосился, колени дрожат. Я прижался к стене затылком, спиной и ладонями. В висках горячо булькает, как в казане на примусе. В магазине тишина, слышен только громкий стук сердца. Хочу увидеть маму, но вдруг гаснет свет. Наверно, перегорели пробки…
На моей голове тяжелая ладонь.
Пацан, вставай, затопчут. Перед глазами солдатская шинель. Она пахнет махоркой и чем-то военным. К губам прижимается мякоть черного хлеба. Я откусываю и глотаю.
Не спеши, пацан, ты жуй, жуй. Еще подавишься. Снова хлеб прижимается к губам. Я откусываю, жую и глотаю. Хлеб душистый, вкусный.
Большая ладонь берет меня подмышку, поднимает и приставляет к стене.
Очухался? Возьми хлеб, ешь сам. Не маленький. Не подгибай колени, пацан. Торчи, не сдавайся. Ничего, выкарабкаемся.
Солдат закинул вещмешок за спину, взлохматил мои волосы и пошел к выходу. В дверях оглянулся, покачал головой и вышел. Правый рукав ниже локтя плоский и засунут в карман шинели.
Я вижу маму. Перед ней три женщины. Надо бы напомнить название конфет, но я боюсь отлепиться от стены и про себя говорю: кавказские… кавказские.
Мама здоровается с продавщицей, что-то говорит ей. Продавщица удивленно переспрашивает, кивает и улыбается. Что мама сказала, вдруг она ошиблась? Подхожу к прилавку. Продавщица сворачивает большой куль из хрустящей бумаги, еще один из газеты, кладет один в другой и подходит к полке с конфетами. Правильно! Мама не ошиблась! Продавщица кладет конфеты горстями. Хорошо, что не лопаточкой, целее будут. Она встряхивает куль, кладет на тарелку весов, смотрит на стрелки, вынимает несколько конфет, опять смотрит на стрелки.
Зачем так точно взвешивать, пусть будет немного больше, кошелек такой пухлый, почему мама молчит…
Продавщица еще раз встряхивает куль, загибает угол и передает маме. Все, через несколько минут конфеты у нас дома! Пока мама будет перекладывать их в кастрюлю, комната наполнится запахом шоколада. Окна мы еще не открываем, запах в комнате сохранится до утра. Даже до моего прихода со школы.
Я беру у мамы куль. Он тяжелый, бугристый. А запах!.. Спасибо, мулька! Она добрая, я очень люблю ее, очень. Из-за одежды мама выглядит пожилой, хотя она еще совсем не старенькая.
Я вырасту и обязательно куплю ей тонкие красивые платья; пальто с меховым воротником и теплую муфту, чтобы пальцы не мерзли и не склеивались от мороза. Я куплю маме сапожки чуть большего размера ног и в магазине проверю, может ли она шевелить обмороженными красными пальчиками. Если обувь жмет, болят косточки пальцев.
Скоро три года, как война закончилась, а плохие новости все приходят и приходят. Мама держит в руке письмо и тихо плачет в стенку. Маленькие худые плечи, кажется, тоже плачут… Мне хочется обнять ее, но почему-то стыдно.
Первую конфету я дам маме! Нет, я возьму себе половинку, а вторую положу ей в рот. Как ребенку. И она улыбнется. Мама так редко улыбается. Зато часто вздыхает: ой –й-й… Мы вышли из магазина. Перейдем дорогу, до наших ворот полквартала. У мамы болят колени, быстро идти она не может. Ничего, потерплю.
Мама вдруг останавливается. Как по команде «замри». Она смотрит в сторону кладбища. Лицо бледное, пятна под глазами почти черные. Мне страшно. Такие лица бывают у покойников, которых везут на кузовах с открытыми бортами. Женщины в черных платках держатся за край кузова и плачут, и воют, и ломают себе пальцы, и спрашивают – на кого ты нас оставил?..
Мама стоит, как вкопанная. Что с тобой, мама, тебе плохо, ты не можешь идти?.. Она поворачивает ко мне голову и выразительно, как наша руссалка, читает слова диктанта, – дай мне конфеты.
Живот наполняется холодом, будто в него накачивают морозный воздух. Мама с кулем в руке идет к воротам кладбища. Она даже не знает, иду ли я рядом.
По обе стороны ворот стоят нищие. Мама говорит, несчастные. Послевоенные калеки на костылях, с палками. В обмотках, в валенках без галош; в стоптанных ботинках и сапогах. В истрепанных шинелях и солдатских ватниках, из которых торчит грязная вата. Небритые, опухшие лица.
Мама кладет конфеты в сложенные ладони. Первому нищему, второму, третьему… Она раздает мои конфеты горстями. Ладонь у нее маленькая, а конфет помещается много…
Зубы сжались так, что могут войти в десны. Кулаки упираются в дно карманов. Правый треснул, кулак провалился за подкладку. Если бы она давала по две, по три конфеты, мне бы тоже досталось, но она раздает их горстями, горстями… Они съедят их сегодня же, а я бы ел по одной в день или через день, через два. И конфет хватило бы на месяц, на два, на три…
Злость душит меня, хотя у нее нет рук, и кажется, хрустят косточки горла, а во рту очень сухо. Мама все глубже засовывает руку в куль. Он уже не бугристый, а скомканный, похожий на гармошку.
Я никогда не разрешу ей называть меня сынок. Я ее ненавижу. И ни за что не прощу!..
Последний нищий «матросик», «морячок». Он не похож на настоящего нищего. Всегда бритый, с черными усиками, губы пухлые, красные; зубы, как у артиста. Волосы густые, кольцами, на лбу чуб.
Под бушлатом чистый тельник, на коленях бескозырка БАЛТФЛОТ. «Матросик» не просит «Христа ради», не крестится. Когда подают, улыбается – спасибо, спасибо. У него нет ног. Он сидит на платформе, привязанный ремнем. Подшипники застревают между булыжниками мостовой и мы, пацаны, переносим его через дорогу. «Матросик» держится за наши плечи и командует – не робей, братишки; майна, вира, полундра!..
Девочки узнали, «матросику» 22 года. Жалеют его и тайно влюбляются, как в артистов на открытках. Вышивают и вяжут кисеты, хотя он не курит. Девочка, старше нас лет на пять, приносит книжки, сидит на завалинке кладбищенской стены и читает стихи. Мама уводит ее за руку – какой позор, какой позор… Говорят, приходил отец девочки, долго разговаривал с «матросиком» и уходя, сказал: прошу вас, подумайте, вы еще так молоды… Летом «матросик» исчез…
Мама дала ему конфеты, прощупала куль, сложила и опустила в карман. Чтобы дать мне понюхать газету… Мы подошли к хлебному.
Подожди, у нас нет хлеба. Я стою возле ступенек. В голове сверкнуло – самокат!.. Я забыл о нем, когда нашел проклятый кошелек… Месяц я песком шлифовал неструганные доски, вытаскивал из опухших пальцев занозы, доставал подшипники и толстую проволоку. Никогда не будет у меня самоката!..
Если б я мог умереть, чтобы она шла в черном платке и плакала, и просила прощения… Но я бы не простил. Даже если бы хотел. Мертвые не прощают. И люди живут непрощенными. И мучаются. Они должны знать это, пока все живы. Потом поздно.
Мы зашли в кухню. Принеси ведро воды. Она не сказала – сынок. Я принес воду, открыл дверь в комнату. Мама берет меня за руку, – подожди, выслушай меня. Я отворачиваюсь.
Сынок, я знаю, ты обиделся. Прошу тебя, пойми, постарайся понять. У людей большое горе, беда, несчастье. Мы не можем помочь им, но радоваться этим деньгам нельзя, сынок. Мы поступили правильно. Поверь, у тебя еще будет много конфет. И этих, «Кавказских», тоже. Поверь мне, сынок. Убери со стола, скоро придет папа, будем ужинать.
На столе все, как было до хлебного. Кроме алюминиевой кружки. Ее место возле ведра. Кто принес, пусть убирает.
Я сложил учебники и тетради в ненастоящий брезентовый портфель, чернильницу-невыливайку вложил в мешочек и туго затянул шнурок. Открыл книгу. На обложке голова мальчика в меховой шапке с узкими длинными «ушами».
Буквы не складываются в слова. С улицы доносится грохот самокатов. Взрослые жалуются участковому, требуют «принять меры». Он предупреждает нас «в последний раз», грозит «переломать тарахтелки» и «дать по шеям». Но его единственный глаз хитро моргает.
У меня тоже был самокат… И куль с конфетами я держал в руках… Я чувствую их запах, хотя в этой комнате «Кавказских» никогда не было. Снова обида и злость душат меня, сжимают мои кулаки и хочется ломать, топтать все, что попадется под руку. Чертова кружка раздражает меня, и я швыряю ее на пол.
Из кружки сыплются «Кавказские»… Я стою, как завороженный. Опускаюсь на колени, ползаю по полу, собираю конфеты. Четыре… Она оставила мне четыре конфеты… А нищим давала горстями. Не нужны мне ее подачки.
И вдруг, одну за другой запихиваю конфеты в рот. Они превращаются в липкий ком. Он застревает в зубах, прилипает к языку, рот не закрывается, я не могу жевать. Мне не хватает воздуха, я дышу, как рыба, с которой скребут чешую, а она еще живая. Нос и горло сдавило, глаза выпучились.
Когда мы шли домой, я хотел умереть, но не думал, что это случится так скоро. Я заплакал…
Я плачу, мотаю головой, стучу кулаками по доскам пола и вою, и стону, и скулю. Как моя собака, когда пьяный сосед ударил ее сапогом. Слезы и все, что течет из носа, изо рта смешивается, стекает на рубашку, на руки, на пол. Я прислонился к ножке стола и закрыл глаза.
… Во дворе лает собака. Я не могу встать, колени затвердели и не разгибаются. Подтягиваюсь за подоконник. Двор мутный и серый. На веревке раскачиваются белые кальсоны, рубашки и два пустых лифчика. Обычно мы с другом представляем то, что бывает внутри.
Мешочком для невыливайки протираю рубашку, руки, пол. Мама два раза укололась до крови, когда шила его. Я попрошу отца купить наперсток. И положу его в коробку с нитками. Будет сюрприз для мамы.
Ненависть и обида вытекли со слезами, голова пустая и легкая, как ненакачанный футбольный мяч. Кошелек, конфеты, нищие – будто плохой сон.
Девочкам хорошо, им ничего не стоит поплакать. Поэтому головы у них пустые, беззаботные и говорить с ними не о чем.
От конфет во рту осталась горечь, в горле ком. Если нищие съедят их разом, будет то же самое. Жаль, никто их не предупредит. О них никто не заботится, они одинокие и несчастные. А у меня есть родители, у моей собаки есть я. Когда ей было больно, я гладил ее, утешал словами. Она дрожала, скулила, она понимала каждое слово и смотрела на меня водянистыми глазами и лизала мой нос.
С улицы опять донесся грохот. Пацаны возвращаются. Если узнаем, кто взял самокат, устроим ему темную. Долго будет помнить.
Вообще-то, на самокат у меня времени уже не будет. Летом откроется ДЮСШ, в сентябре – Дворец пионеров. Я запишусь в секцию гимнастики и авиамодельный кружок.
Я закрыл ставни, зажег фитиль керосиновой лампы и вставил пузатое стекло в круглый резной заборчик. Фитиль пыхнул серым облачком и разгорелся пляшущим огоньком. На стенах появились загадочные дрожащие тени. Я придумываю им названия, а мама называет меня фантазером.
Если бы она сейчас зашла и погладила теплой ладошкой мою голову, и даже поцеловала, я бы не отодвинулся – ну… мама… Я отогнул занавеску дверного окна.
Прислонившись к стене, мама сворачивает кожуру с вареной картошки. На закатанные до локтей рукава старого пиджака капают слезы. Она такая жалкая, обиженная…
В груди у меня что-то загорелось, в горле застрял ком, глаза наполнились солью. Я бросился к маме и прижал ее к себе.
Мама… Мама… Не плачь, мама…
Она отодвинулась, глубоко посмотрела в мои глаза и тихо простонала: я не могла иначе… не могла… не могла…
И всем лицом прижалась к моей груди, и заплакала. Громко, как ребенок, как от сильной боли. Жаркое дыхание и горячие слезы доходили до моего сердца, и оно билось громче и чаще.
Я говорил маме слова, которые никогда еще не говорил. И даже не думал, что знаю их…
На ее головке блестят тонкие белые ниточки. Их немного, но они есть, а я даже не знал, что они появились…
Я целовал пушистые волосы, я дышал их запахом, и он был в тысячу раз приятней запаха конфет.
Я переходил из класса в класс, взрослел, формировался. Авиамодельный, тренировки, азарт соревнований теснили рогатки, уличные потасовки, игры и костры в развалинах. В кострах взрывались патроны, оставляя на мальчиках суровые метки послевоенного детства.
Историю с конфетами, выстраданную нами, ни я, ни мама не вспоминали. По крайней мере, вслух. Но в памяти она запечатлелась до мельчайших подробностей, оставив глубоко во мне рубцы. Так на теле остаются шрамы от тяжелых ран.
Достигнув возраста самоосмысления, я понял мораль маминого поступка и чего он ей стоил. Я понял смысл сказанного ею – мы поступили правильно. Мы, сказала она. Мама хотела, чтобы я был причастен. Сознавая, что я еще не готов сочувствовать и сострадать, она вбросила зерна сочувствия и сострадания в мое будущее.
Мартовский день 48-го остался в памяти не только конфетами и кошельком.
После ужина отец занялся моей раскладушкой. Укладываясь, я раскачивал ее, чтобы деревянные козлы по-кошачьи мяукали. Отец грозил – поломаешь, будешь спать на полу. Мама заступалась – он же не нарочно.
Я принес несколько ведер воды, побаловал и накормил собаку. Ей пора было в конуру, но она подлизывалась, терлась о мои ноги, давала лапу и смотрела на меня, будто спрашивая – ты мне друг? Пришлось с ней еще повозиться.
… Если собака друг человека, почему бы ей не спать в комнате? Наверно, человек ей не друг.
Родителей я застал в кухне. Перед сном они будут пить чай, и мама обо всем расскажет отцу. Чтоб не пришлось отвечать на его вопросы, я решил лечь пораньше. Отец удивился, но вмешалась мама – он сегодня устал, пусть ложится.
Я растянул занавеску, отделявшую меня ночью от родителей, и лег в дурацкое брезентовое корыто. Засыпая, я обычно вспоминал героя трудового фронта, которого за маленький рост прозвали Малышок. Но глаза слипались, тело становилось деревянным, как у Буратино. На потолке дрожала тень фитиля керосиновой лампы. Пузатый будильник кряхтел, как утка, накормленная железом: кря-кряк, кря-кряк. Спать-спать… Спать-спать… Чтобы не уснуть, я подложил под голову кулаки. Так спали партизаны на коротких привалах.
На занавеске появились тени родителей. Отец раскалывал рафинад, мама наливала чай.
Обычно говорил отец. О работе, о новостях. Иногда о непонятном – взяли, выслали, курган. Мама вздыхала, Господи, за что, за что… В тот вечер отец слушал маму. Днем я хотел попросить ее не говорить о конфетах, но постеснялся. Накрыв голову, я шепотом просил: не говори папе о конфетах; пожалуйста, мама, не говори, не говори.
Она услышала мою мольбу. Услышала!.. О конфетах отец узнал десятилетия спустя, когда мы пришли к родителям с большим газетным кулем.
Как мама услышала меня, если я сам себя почти не слышал? Догадалась? В наш двор заходят цыганки. Их просят погадать, вернется ли кто-нибудь из пропавших без вести. Иногда угадывают. Но мама же не гадалка…
В мартовский вечер 48-го я узнал о таинственной, волнующей воображение связи между мной и мамой.
Годы набегали на годы. Эту связь я чувствовал, пока мама была жива, и порой она проявлялась удивительным и загадочным образом.
Как-то мне довелось побывать в одном учреждении. Около одиннадцати за мной закрылись массивные двери, и я направился к остановке троллейбуса. На перекрестке машинально посмотрел вдоль улицы. В четырех кварталах от меня белело здание моей школы.
Минут десять спустя передо мной, через дорогу, были знакомые ворота. Над ними та же темно-вишневая вывеска, но надпись иная – «Станция Юных Техников».
Я собрался перейти дорогу. Скрипнула калитка. Появляется… моя мама. Я остолбенел, ноги вросли в тротуар. Мама осторожно переступает высокий порог, поворачивается к воротам, смотрит на вывеску. Она поняла: это уже не школа.
Сбрасываю с себя оцепенение, перебегаю дорогу и вырастаю перед мамой. Она смотрит на меня, как на привидение – ты?!
Представь, я. Твой сын. Но почему ты здесь? Зачем? А-а-а, тебя вызвали… Кто? Что я натворил?.. Я же дал слово!
Не говори глупости. Я шла на базар. Вспомнила: рядом твоя школа. Кстати, где она теперь? А ты что здесь делаешь? Почему не на работе?
Сколько раз мама уходила из школы, нагруженная жалобами учителей и, надо же, вспомнила: рядом школа…
… Мама знала имена почти всех моих одноклассников. Она угощала их, чем только могла, просила приходить еще.
Хорошие ребята, говорила она, вспоминая мои школьные годы, дружный был класс. И учителя были хорошие.
Особенно те, от которых ты настрадалась. Прости меня, мулька.
Я давно простила. Возраст… В старших классах все было иначе.
Мне было 14 лет, когда я узнал о необычном, загадочном «прощении».
«Мамы прощают детей еще до их рождения.
Как это – до рождения?
Как это, выразительно повторила мама, ты узнаешь сам. Ты увидишь и поймешь. Всему свое время».
Спустя много лет я все увидел и понял.
Мы все еще стоим возле ворот школы, удивляясь необъяснимому совпадению желаний.
Мамчик, мне тоже захотелось побывать здесь. Именно сегодня. Странно, правда? Не волнуйся, я взял отгул.
Как легко и непринужденно врется возле этих стен. И возраст не помеха.
Мулька, идем на базар. Купишь мне что-нибудь вкусненькое. Потом провожу.
Идем, сынок. Куплю, но не только тебе. У меня есть невестка и внуки. Эгоист.
Ругай меня, ругай, моя ворчунья. Все равно я люблю тебя. Очень! А ты меня? Признавайся!
Мама молчит. Она благодарно смотрит на меня. В ее глазах бесконечная нежность и ласка. От глаз разбегаются смешинки-лучики.
… Не помню, чтобы мама говорила мне о своей любви. Но эти глаза, теплая ладошка на моей голове и ласковое «сынок» утешали, согревали, успокаивали.
Я всегда любил маму, но детская угловатость и подростковая стеснительность сдерживали мои чувства. Повзрослев, я не стыдился признаваться маме в любви, обнимать ее и целовать. Я знаю, ей были приятны мои признания, она ждала их.
Теперь, когда мамы нет и никогда не будет, я смотрю на безответное фото и горечь сожалений сжимает горло, застилает глаза. Я мог бы чаще признаваться маме в любви, обнимать худенькие плечи, целовать пушистые седые волосы и натруженные обмороженные пальчики.
В одном из моих юношеских блокнотов хранится полустертая карандашная строка из бальзаковского романа: укоры совести хромают на обе ноги и оттого всегда запаздывают.
… Сутолока базара позади. Галантно предлагаю маме согнутую в локте руку – madame! Манерно грассируя – merci! – она берет меня под руку и мы не спеша идем по нашей улице. Восемь лет эта улица была моей дорогой в школу. К ней нас обоих, мать и рожденного ею сына, привело колдовское притяжение, сравнимое разве что с пуповиной, чудом оставшейся неперерезанной. Пусть же, вопреки рассудку, чудо останется чудом.
Мама устала. Я предлагаю остановиться, отдохнуть. Щечка дружески прижимается к моему плечу – без борьбы нет победы, сынок. Ты забыл?
Пафосную фразу из кинофильма мама не случайно избрала своим девизом.
Да, мама, без борьбы нет победы. Я не забыл. Ты молодчина! Ты мой стойкий оловянный солдатик. Я люблю тебя, мама.
Горячая волна пронзительной жалости обожгла грудь. Я прижался губами к седой головке. Теплые пушистые волосы пахнут чем-то необыкновенным и таким щемяще родным…
Что еще может пахнуть так трогательно, как седые волосы мамы?..
Мулька, скоро будем дома, ты заваришь кофе. У тебя получается замечательный кофе. Я закурю, мы поговорим. Маме нравится аромат кофе, смешанный с дымком сигареты, но просит: не затягивайся, ты обещал.

Нет, сынок, на кофе не напрашивайся. Пойдешь домой, найдешь, чем заняться. Ты, кажется, в отгуле, от глазок разбегаются лучики, или я ошибаюсь?
Так всегда. Если случается забежать к родителям, мама торопит: иди, сынок, у тебя семья. Отец ворчит: мы еще не поговорили…
Я легонько прижимаю к себе худенький локоть и приноравливаюсь к шажкам моего верного дружочка. Наша улица гостеприимно стелется перед нами. Мама здоровается со знакомыми. В послевоенные годы в ходу еще было ненавистное мне тогда «мадам».
Вдоль тротуаров – шеренги деревьев с крепкой корой на стволах. Листья упитанных крон шепчутся. Они узнали меня! Прячась в них, я стрелял в «немцев» из «партизанской» рогатки. Но маме знать об этом ни к чему. Идти нам уже недолго.
Недолго… В этом слове еще нет горечи. Мама рядом, вечером я услышу в телефонной трубке голос отца.
… Когда родители живы, не думаешь о том, что когда-нибудь, после, вернувшись на эту улицу, я пройду мимо ворот, за которыми порог родительского дома. Из которого я ушел в свою, предназначенную мне судьбой, жизнь. Дом, в котором я рос и созревала моя основа, обраставшая жизнью, как скелет мясом.
Годы… Страницы жизни…
Я иду по знакомой улице. Знакомой, но чужой. Дворы, одноэтажные домишки. Стволы деревьев с отваливающейся корой. Кроны со старческими прорехами кланяются тротуарам, поминая тех, кого увел Вечный Сон. Когда-то на дуновение ветерка листва отзывалась звонкими колокольчиками. Теперь глухой шелест напоминает старческое кряхтенье.
Зимой толстые бородавчатые сучья завернуты в белые саваны. В мартовскую капель они видны сквозь тонкие стенки ледяных саркофагов, истекающих холодными талыми слезами.
Старость и Вечный Сон как сумерки и ночь…
Я прохожу мимо знакомой калитки. Двор застелен корой асфальта, под которым следы моих босых ступней. Чужие люди, чужой дух.
Кладбищенские ворота. Напротив, на углу, хлебный, возле ступенек которого я навсегда оставил самокат. Напротив хлебного гастроном, в котором я захлебывался слюной, представляя, как буду есть «Кавказские».
Все как было. Но родителей уже нет. И «Кавказских» след простыл. По обе стороны кладбищенских ворот не стоят нищие. Их лица сошлись в один растерзанный войной Лик. Только два лица остались в памяти без ретуши времени. Безногий «матросик» и девочка с необычным именем К…
Она полюбила несбыточной, невозможной любовью, о которой мы, тогдашние пацаны, в старших классах писали сочинения по мотивам русской классики.
Годы… Страницы жизни…
После смерти мамы отец несколько месяцев жил с нами. Вечером, перед тем, как лечь, он сгорбившись сидел на диване, держа обеими руками фото в ажурной рамке. Пристально вглядываясь в лицо мамы, кивал, чему-то удивлялся. Возможно, он вдруг увидел то, чего раньше не замечал. Так бывает…
Иногда я садился рядом, прижавшись к отцу плечом. Слова утешения были бы уместны, но я молчал.
Каждый должен до конца выстрадать свое горе. Иначе оно останется на поверхности и будет терзать и мучить. И жизнь станет невыносимой.
Вернувшись к себе, отец попросил снять с антресолей большой «семейный» чемодан. Полузабытый запах нафталина. Платья, юбки, блузки… Мама давно их не надевала. Они были ей велики…
… Горе, причиненное войной, не убывало, и люди топили его в себе. Вглубь, вглубь. Иначе как жить? Затаившись, оно, словно рваный осколок, застрявший в груди, напоминало о себе острой болью. Безмолвной снаружи, кричащей внутри.
Ночью я слышал горестное, приглушенное подушкой, утробное – ой-й-й… И тихий срывающийся голос отца: не надо, не надо… Днем жизнь продолжалась.
Голодные необустроенные годы отступали. Расчищались развалины, исчезали надписи на остатках стен: «Осмотрено, мин нет. Л-нт Гурьев». Вернулся ли минер с войны?..
В начале каждой послевоенной весны ждали, когда прозвучит сочный бас Левитана. Торжественный, как в сообщениях о победах и салютах. Снижение цен! Мизерное, но все же…
Радости было много, она не вмещалась в тебе и хотелось выплеснуть ее, разделить со всеми. Соседи собирались во дворе, плакали, смеялись, обнимались… Такое было время.
Наступила пора относительного благополучия. Молодое тело мамы пробудилось. Она поправилась, похорошела, глазки засветились; лицо посветлело, уголки губ приподнялись. Складочки на переносице разгладились.
Женственность торжествовала, прорастая сквозь неурядицы быта, как пучок травы сквозь щель в асфальте.
Тогда-то и появились первые платья, сшитые в ателье. В них мама была еще красивее. Я тайком любовался ею, гордился и в мальчишеских грезах дружил с девочкой, похожей на нее.
В конце 50-х все рухнуло. Болезни, одна за другой; операции, операции… Мама худела, кожа под глазами темнела, глазки потускнели. На переносице появились складочки.
Как будто ураган унес все, что воскресло в маме. Фигурку, походку, голос, улыбку…
Она не жаловалась, не стонала. Лишь иногда, уловив чей-то бестактный взгляд, словно оправдываясь, вздыхала – судьба человека…
Позже, немного окрепнув, она говорила, нет, провозглашала! – без борьбы нет победы. И это не было бравадой. Мама имела право торжествовать. Она не предавалась унынию и боролась с болезнями до последних дней жизни.
Она худела, и шансов вновь поправиться уже не было. Мама знала это и аккуратно укладывала в чемодан свои вещи, не забывая класть между ними шарики нафталина.
… Перебирая ворох одежды, отец растерянно бормочет: они совсем новые, она ничего не сносила, почему, почему…
Из глаз, затянутых пеленой старости, выскальзывают крупные дрожащие капли. Они медленно катятся по морщинистым щекам, оставляя влажные извилистые дорожки. Перекошенный рот исходит немым криком.
Так плачут старики, когда тишина одиночества страшнее смерти.
Под вещами мамы фибровый чемоданчик. С ним я ходил на тренировки и соревнования. Эхо моих спортивных лет…
… Черные брюки с узкими красными лампасами, майка, коричневые «чешки». В коробочке из-под зубного порошка – мои регалии. От БГТО до КМС (кандидата в мастера спорта). В штопанном носке две накладки, оберегавшие сожженные на перекладине ладони. Мамины вездесущие ручки. Из пухлых накладок взлетают два призрачных облачка магнезии. Как две души. Зависнув на мгновение, они исчезают. Душа – тайна. Никто не видел ее и никогда не увидит. Главное, чтобы она была.
Растроганный встречей со спортивной юностью, я растерян и не знаю, какими словами благодарить маму. Отец знает: сынок, видишь, какая она была? Видишь?..
Не помню, чтобы он когда-нибудь называл меня «сынок».
… Я открываю папку с грамотами. Как азартно я изнурял свое хилое тело на тренировках и дома!.. Вначале ежедневно, потом, опомнившись, раз в месяц, измерял бицепсы полоской бумаги. Шли месяцы, годы. Полоски удлинялись, но азарт не убывал.
Под папкой, рядом с выцветшим галстуком и потемневшим зажимом, кошелек с облезлыми до основы боками. Я судорожно сжал его в кулаке. Два шарика больно вдавились в кожу, но я еще сильнее сжимаю кулак. Пусть будет больно, пусть. За ненависть и злость, вспыхнувшие во мне. К маме…
Я швыряю кошелек на пол. Из него сыпятся монеты.
Отец привстал. Протянув руку к кошельку, он смотрит на меня недобро, зло. Истерически дрожащие губы выговаривают – нет… нет…
Я собираю монеты, покрытые темно-синей пленкой. Так в марте 48-го я собирал «Кавказские»…
Отец разворачивает на платье комок кожи. Широкая ладонь бережно, словно это мамины пальчики, накрывает кошелек. В этом жесте трогательная нежность и любовь. Если бы мама могла почувствовать эту запоздалую ласку…
Отец поворачивается ко мне и горестно разводит руки. Он смотрит куда-то сквозь меня, и я впервые в жизни вижу, как глаза медленно превращаются в глубокие озера, на дне которых мерцают и пульсируют зрачки.
Отец плачет. В голос, горько; захлебываясь всхлипами. Две струйки стекают на платье, на нем расползается темное пятно. Тяжелая ладонь гладит кошелек – какая она была… какая она была… Отец просит у мамы прощения и говорит слова, которые она, наверно, слышала нечасто. Так бывает…
… Раскаяние и слова, сказанные вслед, облегчают собственные страдания, но не искупают вину. И от осознания неискупленной вины сердце щемит и ноет, и бьется оно уже не в груди, а в самом горле. Бьется и клокочет, и спазмы сдавливают глотку и кажется, вот он, последний миг…
Годы… Страницы жизни.
Энергично осваиваю новую жизнь. Семинары и лекции, зачеты, курсовые. Вечера, танцы, знакомства; хождение в общежитие, поздние возвращения, иногда под утро. Отец сурово выговаривает, мама переживает молча.
Впереди ответственные соревнования. Тренировки по программе мастера. Вялость, падения; срывы, растяжения. Тренер хмурится. Наконец, условие: или – или. Выбираю то, что на всю жизнь. КМС – мое последнее слово в спорте.
Мама деликатничает: та, которую ты провожаешь, она не волнуется? Ночь, улицы, один…
Почему-то взрываюсь – ты волновалась, когда папа под утро возвращался к себе домой? Ночь, улицы, один…
Я не могла позволить себе такое. И папа тоже.
Ну, конечно, ерничаю я, ваше поколение… Не то, что мы. Значит, плохо вы меня воспитали. Так что… Я осекся. Мама обиделась. Лицо сморщилось, как от зубной боли, и вся она сжалась в несчастный комочек. Только бы не заплакала…
Я становлюсь на колени. Мама резво отступает, теряя тапок. Она эти штучки знает, я прибегаю к ним, вымаливая прощение за какую-нибудь ерунду или клянчу сковороду жареной картошки к приходу друзей.
Кладу тапок на голову и жалобно вою: прости, мамчик, прости меня, дурака, недоумка, идиота. Часто и громко бьюсь головой об пол, незаметно подставляя ладонь.
Мама прерывает мои стенания, – перестань паясничать, встань.
Простишь, встану. Иначе, буду ползать за тобой, скулить и лизать тапок. Подхвачу инфекцию, понос. Завоняю квартиру. Откроешь окна, соседи вызовут санэпидстанцию. Меня обработают хлоркой, кожа свернется лохмотьями. Будет больно. Ты этого хочешь? Ты родила меня или взяла из детдома?
Мама хватает себя за голову, – это невыносимо!.. Прекрати! Прошу тебя, встань, не мучь меня.
Кажется, переборщил. Встаю, но опять пускаюсь во все тяжкие, только бы она улыбнулась.
Мамиными ладошками шлепаю себя по щекам: дурак, мальчишка, засранец. Пусть отец отхлестает меня ремнем. Только не пряжкой, проследи.
Мама отводит руки за спину и отодвигается. Но я вижу: уголки губ дрогнули, глазки засветились, лучики-смешинки разбежались.
Мулька, даю слово, с понедельника никаких гулек, танцулек и провожаний. Клянусь готовальней! Учеба, только учеба. Ты веришь мне? Посмотри в честные глаза комсомольца. Я оттягиваю веки и таращусь – убедилась?
Обещаю, мама, вечером пролистаю конспекты, открою томик Мопассана и спать. Что? На ночь нельзя Мопассана? Почему? Мама, ты что-то скрываешь от меня? Не жизнь, а каторга. Провожать нельзя, Мопассана нельзя. Кстати, девочкам можно? Лучше б я родился девочкой.
Мама улыбается. Что и требовалось! Она за уши притягивает мою сумасшедшую голову.
Сынок, ты такой несерьезный. Ты хоть помнишь, сколько тебе лет? Когда ты повзрослеешь?
В ее глазах столько нежности, ласки, любви…
Я обнимаю худенькие плечи, целую седеющие волосы и думаю о предстоящем вечером свидании. Домой я вернусь поздно. Либо рано, под утро. До понедельника можно.
Годы… Страницы жизни…
Еще одна ячейка кладовой моей памяти.
Я жду друга у входа в кинотеатр. До начала сеанса минута, предлагаю билет девушке. Спешим, билет не отрываю, сдачу обещаю вернуть позже. Звучит маршевая заставка к журналу, трепещущий луч высвечивает головы. Девушка доверяет мне свою ладонь и мы, пригнувшись, протискиваемся сквозь узкий проход между креслами. Теплая ладошка деликатно выскальзывает из моей руки.
… Если бы я не взял у нее рубль, она пошла бы в кассу. Иные времена, иные нравы. Сдачу я так и не вернул…
Первые месяцы семейной жизни в съемной комнатке. Примус и удобства во дворе не смущают. Во-первых, мы это проходили, во‑вторых, верим в перемены.
Раньше мы встречались под шеренгой лип в гирляндах соцветий, истекавших густым дурманящим ароматом. К ночи расходились по местам прописки. Теперь, по утрам, наскоро перекусив, разбегаемся; после работы сходимся в нашей уютной келье. Вскоре она полна вкусным ароматом ужина.
Приятная неожиданность: жена отлично готовит. Не какие-нибудь дежурные макароны, а супы, борщи, котлеты. На работе хвастаю, молодые мужья завидуют.
Школа семейной жизни.
Урок первый. Из-за несогласованных покупок, вызывающих смех, трещит бюджет. На семейном совете принимается единственно возможное решение. Расходы контролирует жена. Почему-то легко согласился. Объяснить это мудростью не могу. Она вынашивается мужчиной многими годами и созревает с появлением седины. Хорошо бы ей вовремя проявиться; переношенная, она чревата занудной рассудочностью, от которой тошно самому и окружающим.
Урок второй. В связи с непредвиденными покупками, жена предлагает временно умерить расходы. Энергично удивляюсь, – как, недавно получили зарплату?! В ответ растерянные глаза и тишина обиды. На следующий день передо мной тетрадный лист. Две колонки, покупки, цены. До копеечки. И ни слова. Молчание иногда выразительней фраз.
Стыдно… Эти копейки… Никогда больше не спрашивал, на что тратятся деньги.
Мудрость женщины прорастает из ее женской сути, и проявляется она независимо от возраста.
Урок третий. Сужается круг моих знакомых. Они просеиваются сквозь сито вкуса жены. Ворчу, но вскоре соглашаюсь. Совмещать семейную жизнь и работу с друзьями холостяцких лет немыслимо. Отвергнутые злорадствуют: подкаблучник! Пусть…
Урок четвертый. Он длится всю жизнь, я вечно неуспевающий. Тема – уборка. Логически необъяснимая составляющая семейной жизни, раздражающая отсутствием видимых причин. В комнате уютно, все на своих местах. Слабая, как писк котенка, попытка предотвратить погром. Руководство стоит на своем – уборка!
Комната – полоса препятствий, хожу, балансируя руками. Хрясь, – мужское счастье!.. От дорогой сердцу вещицы остаются ностальгические осколки. Добродушно-тихим голосом произносится фраза, от которой перестаешь себя уважать.
Почти про себя ворчу: что убирать?.. У жены скрипичный слух, – ты устал? Отдохни.
Спасибочки, я себе не враг. Я что-то переношу, складываю. Нет, не так, дай сюда, я сама. Миллиметр туда-сюда, какое это имеет значение? Имеет, оказывается.
Пролетели десятилетия. Связка лет тяжелеет, но уборка, словно бумажный цветок, не вянет. В комнатах разруха. Хрясь, – мужское счастье… Жена в другой комнате, пронесло. Включаю пылесос и, как велено, по углам, по углам. В натужный вой турбины врывается предательский звон ностальгических осколков. Из соседней комнаты: что ты разбил в этот раз?.. Скрипичный слух. Если он есть, так есть!
Я что-то складываю. Нет, не так, дай сюда, я сама. Сантиметр туда-сюда, какое это имеет значение? Имеет, оказывается.
Правила уборки, как армейский устав, обсуждению не подлежат. Так было, так есть. Одно лишь не так, как было. Что убирать, ворчит мой внутренний голос, неуловимый даже для скрипичного слуха? Спасибо, Мудрость, ты не прошла мимо.
Въезжаем в первую госквартиру. Скромную, зато плата мизерная; примус навсегда в прошлом. Через две-три недели в новой обители уютно и приятно жить.
Сменялись квартиры, их убранство, но уют и тепло родного дома оставались и остаются неизменными. В чем заслуга моя весьма скромна.

Жена заметно полнеет материнством, во мне пробуждается зов родителя. С каждым месяцем это волнующее чувство крепнет и будоражит воображение.
Вспоминая первые месяцы отцовства, я вижу себя растерянным, нелепым и безмерно счастливым.
Помню, как щемило сердце, когда я брал на руки розовый комочек, завернутый в простыню, сквозь которую ощущалось теплое, мягкое тельце. Оно было таким беспомощным и трогательно покорным, и хотелось прижать его к себе и слиться с ним…
Помню клочья резины в забытой на огне кружке; бесконечно длившийся час, когда жена отлучалась, а ребеночек почему-то отказывался от обычно желанной соски и жалобно плакал…
Помню прикушенную губу и болью исходившие глаза, когда еще неокрепшие десенки вдруг сжимались. Наверно, от удовольствия…
Помню счастливое лицо, склоненное над ребеночком, когда пухлый кулачок ложился на грудь, а глазки, не моргая, смотрели на маму…
Жена успевала всюду и все у нее ладилось. Врач приглашала в кабинет таких же молодых мам, чтобы видели, как пеленать и содержать ребеночка.
Месяц за месяцем я постигал две Высокие Ипостаси семейной жизни, но мне кажется, я все еще учусь быть Отцом и Мужем.
… Как рано мальчики грезят женщиной, как поздно порой мужчина осознает, что надо женщине.
Говорят, девочкам-подросткам снятся белокурые принцы, которых, конечно же, хватит всем. Они объявят девочек принцессами и, взяв за руки, поведут в прекрасную волшебную сказку. Родители почему-то называют ее обыденно просто – жизнь.
Повзрослев, девушки легко расстаются со сказкой и хотят видеть рядом серьезного, старше себя, мужчину с волнующими воображение блестками седины на висках. В такой седине чудится рано созревшая зрелость.
Однако жизнь и мечты всегда на параллельных курсах. Случается, правда, они сближаются и кому-то удается перехватить мечту. Которая зачастую оказывается чужой или вовсе не такой, какой мечталась.
… Схваченное второпях настоящим не бывает.
И девушки влюбляются в сверстников, выходят за них замуж, и сами растят для себя зрелых мужей и мудрых отцов детям.
А седина не заставит себя ждать. Воображение она не тронет, но будет свидетелем прожитых вместе лет.
И если когда-нибудь, в особую минуту, седая голова прильнет к мягкому теплому плечу жены и она услышит негромкое проникновенное – спасибо, Мать, значит, труды ее были не напрасны. Значит, мечта сбылась.
Глядя на безупречной формы купол живота, в центре которого, почти вывернутый наизнанку, как мне казалось, пупочек, я пытаюсь представить происходящее внутри таинство. В удивительном, загадочном и, наверное, самом совершенном месте, сотворенном Матерью Природой. В котором два Великие Начала Жизни безошибочно выбирали друг друга и сходились, чтоб стать нашими детьми.
Беременность жене идет. Не нужна пудра, чтобы скрыть пигментные пятна. Их нет! Щеки сияют здоровым морозным румянцем; аппетитно припухшим губам, цвета полевого мака, помада была бы оскорбительна. Спелые молочные гроздья обещают ребеночку сытую жизнь.
Женственность вспыхнула, взошла всеми формами, и приятно сознавать, что в цветущем букете материнства есть и мой вклад.
Если плотно прижаться щекой к бархатной коже живота, кажется, слышно приглушенное биение сердечка. Это мама наполнила его своей кровью и благословила – бейся, бейся!..
Ребеночку уже тесно, он ворочается и ножками, ножками стучится и просится к маме. Предчувствуя скорую встречу, он устраивается так, чтобы им обоим было легче пройти короткий, но тяжкий путь рождения.
Прикрыв глаза, мама гладит живот, гладит кругами едва ощутимые бугорочки и улыбается. Ее улыбка загадочней и трогательней, да простит меня Мастер, холодной полуусмешки дамы, от которой возбуждается тонко мыслящая публика.
Маленький чувствует тепло и ласку ладоней мамы и успокаивается. Теперь-то уж он знает: мама помнит о нем, заботится о нем и выпустит в срок, известный только им обоим. Они связаны пуповиной!
Если хорошенько вслушаться, если очень напрячься и захотеть, в первом же вскрике ребеночка услышится испуганное «Ма-а-ма-а…» Ему страшно, пуповина перерезана, он не чувствует маму.
Ему холодно. Он привык к тишине и теплу уютного материнского гнезда – и вдруг оказался в огромном холодном пространстве.
Ослепляющий свет, чужие голоса, чужие руки; боль, причиненная неизвестно за что. Как не заплакать, как же не звать маму…
Из рукотворного кокона проклюнулась щекастая мордашка дремлющего человечка. Первая встреча, первое признание в любви, первая ласка. Мама бережно, едва прикасаясь, гладит лобик, бровки, носик; на щечках оставляет недолгие ямочки.
Истомившаяся в ожидании молочная гроздь склоняется над ребеночком и появляется первая нетерпеливая капелька, трепетная, как утренняя росинка.
Мама трогает пухлый подбородочек, – просыпайся, соня, кушать подано!..
Словно лепестки цветка, открывается ротик, и виден тоненький дрожащий пестик-язычок. Малиновые губки обнимают такого же цвета упругий бутончик, и с первой же струйкой молока в ребеночка вливается любовь матери.
Счастливый! Ему еще предстоит познать эту, ни с какой иной, не сравнимую любовь. Ее будет много, очень много, только бы он не переставал наслаждаться и восхищаться ею; только бы к ней не привык.
Когда привыкают, перестают замечать…
Вознаградит ли он маму дочерней и сыновней любовью, окружит ли заботой и будет ли благодарно целовать натруженные теплые ладошки и каждый, каждый пальчик…
Будет ли радовать маму словами любви, которые, возможно, продлят ее жизнь. И произносить их не только в праздники, а в будни, в будни…
Праздники – исключения, будни – жизнь…
Будет ли, прижав к груди седую головку, – мамы так рано седеют – гладить и целовать, целовать… Чтобы потом, после, вспоминать запах седин, запах родного дома…
Признается ли себе, что в каждом седом волоске есть доля его вины…
Истомившаяся в ожидании молочная гроздь склоняется над ребеночком и появляется первая нетерпеливая капелька, трепетная, как утренняя росинка.
Мама трогает пухлый подбородочек, – просыпайся, соня, кушать подано!..
Словно лепестки цветка, открывается ротик, и виден тоненький дрожащий пестик-язычок. Малиновые губки обнимают такого же цвета упругий бутончик, и с первой же струйкой молока в ребеночка вливается любовь матери.
Счастливый! Ему еще предстоит познать эту, ни с какой иной, не сравнимую любовь. Ее будет много, очень много, только бы он не переставал наслаждаться и восхищаться ею; только бы к ней не привык.
Когда привыкают, перестают замечать…
Вознаградит ли он маму дочерней и сыновней любовью, окружит ли заботой и будет ли благодарно целовать натруженные теплые ладошки и каждый, каждый пальчик…
Будет ли радовать маму словами любви, которые, возможно, продлят ее жизнь. И произносить их не только в праздники, а в будни, в будни…
Праздники – исключения, будни – жизнь…
Будет ли, прижав к груди седую головку, – мамы так рано седеют – гладить и целовать, целовать… Чтобы потом, после, вспоминать запах седин, запах родного дома…
Признается ли себе, что в каждом седом волоске есть доля его вины…
Достанет ли терпения выслушать маму; выслушать, не перебивая, не обижая раздраженным – ты уже это говорила…
Что же, что говорила, а если память уже не та, а если оно еще болит?..
Многое, многое надо успеть, чтобы после не терзало, не мучило безжалостное -поздно… поздно…
Как приговор, не подлежащий обжалованию.
В детстве кажется, мама навсегда. А как же иначе… Взрослея, узнаешь: вечно не живут. Даже мамы. Гонишь от себя эту мысль, гонишь, но неизбежно наступает скорбный день, когда мама уходит.
Навсегда…
Я не был обделен материнской любовью, но суть ее, ее безмерность и жертвенность я осмыслил, когда родились и росли дети. Наши дети.
Никто не любит, как мама, никто не простит, как мама. Любовь и прощение матери неотделимы.
“… мамы прощают детей еще до их рождения.
Как это – до рождения?
Как это, выразительно повторила мама, ты сам узнаешь. Ты все увидишь и поймешь. Всему свое время.”
Много лет прошло с тех пор, когда мама произнесла эту странную фразу. Она была права, всему свое время. Я все увидел и понял.
Мама прощает ребеночка, когда тяжело носить большой живот, болит спина и ломит поясницу…
Когда хочется лечь на живот, но нельзя…
Когда ребеночек выходит из нее и ей очень больно…
Опустошенная и обессиленная, измученная болью, везде, в растерзанных бедрах, в переломанной пояснице, внутри, она не позволит отяжелевшим векам опуститься, не увидев рожденное ею чудо.
Непостижимым образом в считанные секунды она определит, чьи черты запечатлелись на пока еще маловыразительном, в пухлых складках, лице ребеночка.
Распластанная и умиротворенная, она прикроет глаза, но дрожь ресниц выдаст: мама не спит. Она представляет сладостное мгновение, когда принесут ребеночка и она отдастся ему в священном материнском порыве.
Опухшие губы сложатся в счастливую улыбку и несколько слезинок скатятся по щекам. От счастья…
… Черно-белое фото в трещинках, старенькое лицо в морщинках. Не все они – следы былых улыбок…
Проходят годы, опадая месяцами календаря. Жизнь зализывает горечь утраты, но, прорываясь из глубины, она, как старая рана, обросшая новой кожей, все еще ноет и ноет…
Мама… Я смотрю на дорогое лицо, и глазки оживают, и снова лучатся нежностью и любовью.
Я знаю, это невозможно, знаю. Пусть мне это только кажется, пусть, но я хочу в это верить. У каждого своя вера, и я верю: бездонный колодец материнской любви мама оставляет детям.
Не потому ли, когда больно, зовут маму?.. Независимо от возраста.
Жизнь катится, до конечной рукой подать. И хочется успеть отдать маме сыновний долг. Но как, как отдать то, чему нет начала и нет конца?
Мама… Моя милая, моя добрая, моя чудная мама…
… Как все мамы во все времена.
Годы, страницы жизни…
До встречи, которую я ждал и представлял бесконечные шесть лет, считанные часы. Теперь меня мучает неизбежность прощания. Оно будет горьким, и кто знает, не окажется ли эта встреча последней… Кто знает…
Пушистые голубые перины, небесные странницы, редеют. К овалам иллюминаторов, словно прощаясь, прижимаются хлопья пуха.
Плавный полет сменяется стремительными провалами, отчего закладывает уши, а внутренности устремляются к горлу. Экипаж осаживает тысячи лошадиных сил. Тела вжимаются в кресла, лица напряженно-серьезны.
Открывается панорама земли. Извилистые нити дорог, ожерелья игрушечных вагончиков и коробочки домов; блестки водоемов и прямоугольники полей, разделенные шеренгами деревьев.
Прощальный рев двигателей, пружинистое приседание, и под нами – твердь полосы. Доверившие себя рукотворной птице облегченно вздыхают. Так всегда, но никто не признается. Даже себе.
В стальную утробу вползает воздух Родины. Пусть это всего лишь метафора, но в груди что-то сжимается.
Багажная карусель приносит мою сумку. В бок тычется кулак – здорово, чертяка! Голос Родины… Это не метафора, это мой старый товарищ. С детства соседи по улице. Мальчишеское братство, пропитанное гарью развалин и скрепленное куском макухи. Драки, спина к спине, тимуровская команда.
Припадаем друг к другу, выстукивая на спинах глухую дробь. Отстраняемся, всматриваемся – да, жизнь крепко потрудилась, но узнать можно, и снова слипаемся.
Витек, ко мне? Или… туда?
Витек… Когда за 70, от этого мурашки по коже…
Как договаривались. Туда. ОК?
Американ… ОК… Ладно, ОК – так ОК.
Привычка. У них, что ни слово – ОК, ОК.
Брось. Не оправдывайся. У нас ОК тоже в моде. На самом деле, никакого окэя нет. Сплошной бардак.
На когда-то выутюженной широкой полосе асфальта – плеши выбоин. «Жигуленок» кряхтит и поскрипывает. По бокам – угрюмые громады домов. Безжизненные балконы и огромные лоджии; окна мутные, как запотевшие линзы очков. Я помню эти белые высотки. В окнах было много солнца и неба, на балконах и лоджиях цветы…
Все порушили, сволочи, цедит сквозь зубы мой товарищ и крепко, до упора припечатывает сволочей.
А я вспоминаю Северянина.
… Печальный опыт показал,
Как отвратительна свобода
В руках неумного народа,
Что от свободы одичал…
Проезжаем старую часть города. Улочки, переулки, дворики. Редкие коттеджи. Как сорняки. Кричащая безвкусица.
Пригород. Длинный, с километр, забор. Ворота распахнуты. Конечная остановка жизни…
Рука товарища на моем плече, – я на заправку. Ты не спеши, я подожду. Слышишь? Рука встряхивает меня: может, я с тобой?
Нет, я сам.
Ноги сами несут меня. Теперь я над ними не властен. Быстрее, быстрее… Сердце глухо – бум… бум…
Надо бы остановиться, отдышаться, но я вижу их, вижу!..
… Передо мной могилы родителей. Два надгробия, две стелы, два лица.
Вот мы и встретились, дорогие мои… Как же вы постарели… Как осунулись ваши лица и поблекли глаза… Шесть лет… Вечность… Я знаю, вы ждали… Простите, родные…
Я протираю стелы и плиты, а глаза родителей за мной, за мной… Соскучились… Я тоже…
Прощаясь, я придумывал оправдания, казалось, неоспоримые, а в висках колотилось – бросаешь их, бросаешь, признайся… Но я не признался. И уехал…
Они молчали, а я убеждал себя: уезжаю прощенным. Иначе как бы я уехал?..
Я снова протираю стелы и надгробия, и снова глаза родителей за мной, – как живется вам, сынок?
Я молчу. Правду сказать язык не повернется, скажу «плохо», – огорчатся. Я молчу… Вместо слов – многоточия. Они выручают, когда правда неуместна.
Пять дней, пять мгновений… До вылета четыре часа. Строчки на стелах золотисто светятся. Все протерто, вычищено. Надгробия осыпаны цветами. На лепестках бисер. Как слезы…
Мамины любимые цветы… Их не выращивают в оранжереях, не дарят невестам. Скромные, неброские, они растут на полях, на окраинах лесов и обочинах дорог, возле жилищ. Неприхотливые странники… В них есть нечто цыганское, им ведомы тайны встреч и разлук.
… Высокий узкогорлый вазончик на подоконнике. Мама стоит у окна. Она бережно трогает отзывчивые на ласку лепестки, пузырчатые желтые бугорочки. Рассыпаясь в водянистую пыль, на испуганно вздрогнувший лепесток падает одинокая слеза.
Война отняла у мамы многих родных. Она смотрела в окно и тяжко вздыхала – судьба человека…
Возможно, помимо ее воли, где-то глубоко внутри, надежда все еще тлела. Как головешки давно погасшего костра.
Судьба, говорила мама, приданое к рождению. Дорога, которую не выбирают.
Я никогда не верил в судьбу. Теперь же, когда иней покрыл мою голову, но не остудил ее, я понимаю: от судьбы не отвертеться. Этот путь каждому суждено пройти до конца. Каким бы он ни был – до конца.
На этой дороге случаются повороты, порой крутые. Но объездов на дороге судьбы нет.
… Полупрозрачные лепестки трепещут, словно крылышки, возносящие в небеса осиротевшие души. Говорят, там, на небесах, родные души воссоединяются навеки. Так говорят…
Два месяца я собирался посадить рядом с могилкой мамины любимые цветы. Два месяца…
Когда я, наконец, принес саженцы, возле просевшего скорбного холмика покачивались два тоненьких стебелька в белых шляпках с желтыми пуговками. И так кольнуло в самое сердце: почему ветер, почему не я…
С тех пор, когда, случается, колет в груди, я знаю: это они, две трепетные ромашки, принесенные сердобольным ветром. И я вновь и вновь терзаю себя – почему ветер, почему не я…
Время не стреножить. Оно галопом, галопом. На моем плече рука товарища.
Пора, прощайся…
… Да, я знаю, пора. Но как повернуться… Как уйти?
Два лица… Постаревшие, осунувшиеся. Глаза жадно смотрят, – мы еще увидимся, сынок?.. И такая тоска в этих глазах, такая мольба…
Увидимся ли мы?.. Кто знает, милые мои… Кто знает…
Спазмы сжимают горло. Опустив голову, я выдавливаю сквозь одеревеневшие губы неизбежные, трудно произносимые, безжалостные прощальные слова. Лучше б я их не знал… Пора, я опаздываю, но как, как уйти…
Я закрываю глаза и откуда-то издалека доносится тихий родной голос: иди, сынок, иди… Тебя ждет семья…
Спасибо, мама… Спасибо, моя выручалочка… Мой верный дружочек…
Мы уходим. Ботинки неподъемно тяжелеют, подошвы липнут к асфальту; каждый шаг дается все труднее и труднее.
Рука сжимает мое плечо, – не оглядывайся, не надо…
Он прав. Если оглянусь, если увижу их лица, как я уйду? Дважды уйти невозможно… И я не оглядываюсь.
Но в затылке печет и жжет. Жжет и печет…
Нью-Йорк
Виктор ВИГЕР